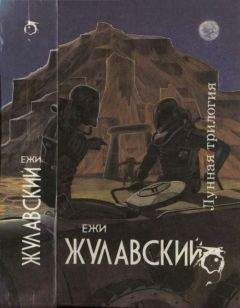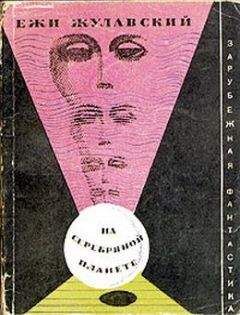Ежи Жулавский - Победитель. Лунная трилогия
Я вспоминаю — на Земле, на моей дорогой, навсегда утраченной Земле, я однажды прочел в книге какого-то ученого-естествоведа, что смерть — явление неизведанное и случайное, по крайней мере, не вытекающее из условий жизни. Меня охватывает страх, как только я подумаю, что она может забыть обо мне и не прийти…
Если я считаю правильно, уже пятьдесят с лишним лет прошло с того времени, когда я с моими покойными товарищами покинул Землю.
Из тех людей, с которыми я был знаком, наверное, мало кто еще жив, а те, которые с детства слышали о безумцах, отправившихся в экспедицию на Луну, теперь уже седые и скорее всего забыли имена путешественников, которых там считают погибшими…
Пятьдесят лет! Сколько за это время могло измениться на Земле. Может быть, я даже не узнал бы теперь знакомых мест. И память моя уже ослабевает… В ней еще содержится множество мелочей, которые бережно хранятся там и всплывают в долгие часы раздумий, но я вижу, что с каждым днем они становятся все более призрачными, мозаикой драгоценных, моей тоской отшлифованных камешков, которые уже рассыпаются и исчезают…
Но я продолжаю мысленно складывать эту мозаику заново, камешки, которые потерялись в течение долгих лет, я стараюсь заменить воображаемыми и забавляюсь на старости лет этими сокровищами памяти, как ребенок калейдоскопом.
И как же они сияют эти воспоминания, когда я смотрю на них сквозь слезы!
Если бы я мог хотя бы один день, даже один час, провести там, на Земле! Как бы я хотел еще раз увидеть людей, настоящих, похожих на меня людей! Услышать шум лесов, увидеть растущую на лугах траву, ощутить запах цветов, насладиться пением птиц!
Многое изменилось за это время на Земле, но люди остались теми же, как и птицы, как и растительность!
Иногда я вспоминаю, поверьте, что душа человеческая, освободившись от тела, может скитаться по миру, по звездам. Когда-то, маленьким мальчиком, еще находясь на Земле, я мечтал, думая об этом, о путешествиях по звездным просторам — теперь я желал бы только одного — вечно оставаться на Земле! И когда меня охватывает страх, что Земля сегодня уже иная, нежели та, которую я знал пятьдесят лет назад, то я думаю о том, что там остались люди, леса, поющие в них птицы, луга и растущие на них цветы… Этого будет достаточно моей душе, если она захочет полететь туда…
Как давно я уже не слышал пения птиц!
А помню, помню еще утренние часы, наполненные птичьим пением… Перед рассветом небо бледнеет, потом начинает слегка розоветь на востоке; стоит тишина — слышен только шелест больших капель росы, падающих с листьев. Потом вдруг первое, короткое щебетание, после него другое, в иной стороне, потом третье, четвертое… Еще минута тишины, а потом, как будто все деревья, все цветы оживают, щебетание заполняет все вокруг Вначале еще можно различить отдельные голоса: это крик сойки, это дрозд, сверху доносится пение жаворонка, это щебечут воробьи — а потом уже все сливается в один огромный, радостный, удивительный хор, от него дрожит воздух, и кажется, что дрожат и листья, и цветы, и травы… Вокруг тем временем становится все светлее, небо становится розовее и, наконец, из-за горизонта выплывает Солнце.
Здесь Солнце всходит лениво и тихо… Хотелось бы думать, что оно не спешит потому, что не приветствуют его ничьи голоса… Многочасовой, серый рассвет, во время которого окрестности лежат скованные морозом и укутанные снегом, не сопровождает пение птиц… Солнце на Луне всходит всегда над мертвым миром в полной тишине. Может, только вскрикнет человек, пришедший сюда с далекой планеты, заплачет проснувшийся ребенок или заскулит пес, окостеневший от мороза в своей яме, из которой выгнал вечером какого-нибудь лунного жителя…
И весь долгий, бесконечный день здесь царит тишина, разве только ветер зашумит, взволнует море и засвистит среди скал или из широкого жерла вулкана послышится угрожающее ворчание…
Так живо вспомнилось мне то, что пришлось пережить. Я листаю пожелтевшие страницы, а когда на минуту закрываю глаза, то кажется, что слышу гул машины, везущей нас через страшную лунную пустыню, снова вижу черное небо и светящуюся на нем Землю, огромные горы, в тени похожие своей чернотой на уголь, но сверкающие всеми цветами радуги в солнечном свете. А потом мне вспоминаются первые года, проведенные здесь, на берегу моря. Перед моими закрытыми глазами встает Марта, печальная и бледная, Петр и дети, которых тоже уже нет на свете. Только одна Ада осталась в живых, но мне кажется, что она уже не помнит своих родителей, хотя то, что слышала о них от меня, пересказывает со всевозможными фантастическими добавлениями новому поколению. Она была совсем малёнькой, когда они умерли. Сегодня же, не считая меня, она самая старшая в этом мире, и эти карлики почитают ее почти так же, как и меня, с той только разницей, что меня они еще и боятся, хотя, видит Бог, не знаю почему, я никогда не сделал им ничего плохого.
Правда, я не умею обходиться с ними, как с равными себе людьми. Временами они скорее производят на меня впечатление удивительно разумных зверюшек Уже первое поколение, рожденное здесь, отличалось от нас, прибывших с Земли Том и его сестры, даже когда выросли, выглядели для меня детьми Их рост и силы уже были приспособлены для этого мира, меньшей массы и меньшей тяжести предметов Среди этого же племени, которое живет теперь вокруг меня, я выгляжу великаном Внуки Марты, люди уже взрослые (удивительно быстро взрослеют здесь люди), достигают мне головами едва до пояса и гнутся под тяжестью предметов, которые я легко поднимаю одной рукой. Но несмотря на такие слабые силы, они вполне здоровы и легко переносят и мороз и жару.
В течение долгих ночей они, правда, преимущественно спят, но если возникает необходимость, могут работать на самом сильном морозе со страстью, вызывающей во мне удивление.
Души у этих карликов удивительно неразвитые. Что произошло с теми крупицами цивилизации, которые мы привезли с собой с Земли! Я смотрю вокруг себя, и у меня такое впечатление, что я нахожусь среди существ, лишь наполовину являющихся людьми. Они умеют читать и писать, умеют из руды выплавлять металл, умеют ставить силки и ткать, пользуются огнем, различными земледельческими орудиями, разговаривают со мной на достаточно чистом польском языке, понимают неплохо содержание книг, написанных по-французски и по-английски — но между собой разговаривают на каком-то странном, убогом языке, складывающемся из мешанины искаженных польских, английских, малабарских и португальских слов, а под их черепными коробками мысли текут лениво и вяло, кажется, они с большим усилием облекают их в слова, помогая себе при этом движениями рук и головы, как дикари где-нибудь в глубине Африки или в южной части Американского континента.