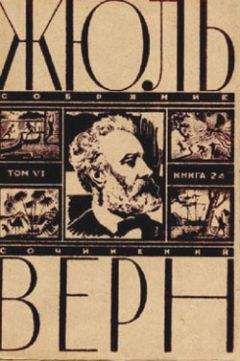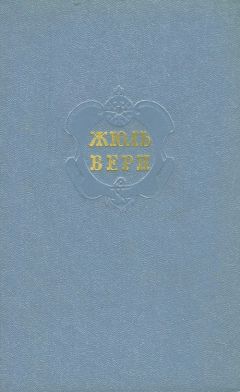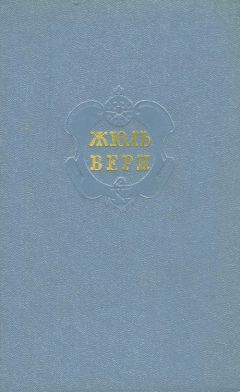Жюль Верн - Том 9. Архипелаг в огне. Робур-Завоеватель. Север против Юга
После смерти отца Николай остался без надзора - мать была не в силах обуздать сына. Он бежал из дома и пустился скитаться по морям, поставив на службу разбойникам и разбою свои удивительные способности прирожденного моряка.
Итак, прошло десять лет с тех пор, как сын покинул родной дом, и шесть лет, как дом этот покинула мать. Однако в Итилоне поговаривали, что Андронику несколько раз видели в окрестностях селения. По крайней мере, если верить слухам, она с большими перерывами и ненадолго появлялась здесь, но ни с кем из итилонцев не общалась.
А Николай Старкос, которого превратности странствий изредка приводили в Мани, до сего дня не выказывал намерения вновь увидеть свое скромное жилище на крутой скале. Он никогда не спрашивал, уцелел ли покинутый дом. Он никогда не пытался, хотя бы стороною, узнать, посещает ли мать опустевшее гнездо. Но, возможно, сквозь грозные события, залившие кровью Грецию, до него доходило имя Андроники - единственное имя, которое могло бы пробудить в нем совесть, если бы она у него была.
Однако на этот раз Николай Старкос зашел в итилонский порт не только для того, чтобы пополнить свою команду десятью матросами. Желание, даже больше, чем желание, - властное побуждение, в котором он, возможно, не отдавал себе полностью отчета, толкало его на это. Он чувствовал неодолимую потребность вновь увидеть, несомненно в последний раз, родное пепелище, вновь ступить на ту землю, где он учился ходить, вдохнуть воздух дома, в стенах которого раздался его первый вздох и прозвучал его первый младенческий лепет. Да! Вот что заставило его подняться по крутым тропинкам на знакомую скалу, вот почему он в столь поздний час стоял у ветхого плетня маленькой усадьбы.
Здесь обычная невозмутимость, казалось, изменила ему. Найдется ли такое черствое сердце, что не дрогнет под наплывом воспоминаний о детстве. Нет на свете человека, который мог бы остаться равнодушным, глядя на дом, где он родился, где его убаюкивала мать. Душа не может настолько огрубеть, чтобы ни одна струна ее не откликнулась на голос прошлого.
Все это испытал на себе Николай Старкос, остановившийся перед заброшенной усадьбой - такой мрачной и безмолвной, будто совершенно вымершей и снаружи и внутри.
- Войти?.. Да!.. Войти!
Эти слова, первые после долгого молчания, Николай Старкос произнес шепотом, словно боясь, что его услышат, что перед ним возникнет какой-нибудь призрак былого.
Войти, казалось, так легко и просто! Ограда была наполовину разрушена, колья валялись на земле. Незачем было даже отпирать калитку и отодвигать засов.
Николай Старкос вошел и остановился перед самым домом, кровля которого, полуистлевшая от дождей, едва держалась на одних только обломанных проржавевших скобах.
В то же мгновение из густой листвы мастикового дерева, росшего у самой двери, со зловещим криком вылетела сова.
Тут Старкос снова заколебался. Он твердо решил осмотреть все, до последней каморки. Однако то, что происходило в нем, - раскаяние, шевелившееся в его душе, - вызывало у него глухую злобу. Он был взволнован и в то же время раздражен. Ему казалось, что родной кров отталкивает его, посылает ему самые страшные проклятия!
Поэтому, прежде чем войти в жилище, он решил обогнуть его снаружи. Ночь стояла темная. Незримо бродил он вокруг в таком мраке, когда и самого себя не разглядишь. Но ведь днем он, вероятно, и не пришел бы сюда! В потемках легче отмахнуться от воспоминаний.
И вот, подобно злоумышленнику, который ищет, как ему лучше пробраться в дом, чтобы ограбить его, крадется Николай Старкос вдоль потрескавшихся стен, огибает углы с отбитыми краями, густо одетые мохом, ощупывает расшатанные камни, словно желая убедиться, сохранились ли еще признаки жизни в трупе этого жилища, старается уловить хотя бы слабое биение его сердца! Дворик за домом оставался полностью погруженным в сумрак. Молодой месяц был уже на исходе, и его косые лучи сюда не доходили.
Медленно обошел Николай усадьбу. Темное строение было полно какой-то тревожной тишины, казалось, в нем притаились духи или призраки. Он снова очутился у фасада, обращенного на запад, и подошел к двери, собираясь сильным толчком раскрыть ее, если она держалась только на щеколде, или взломать, если она была на замке.
Внезапно кровь бросилась ему в голову. Его, как говорится, «бросило в жар»: он увидел огонь. Теперь он не решался войти под родной кров, где так хотел побывать еще раз. Ему мерещилось, что отец и мать покажутся сейчас на пороге и, указав ему на дверь, проклянут его, предателя семьи, изменника родины, забывшего сыновний и гражданский долг!
В эту минуту дверь медленно отворилась. На пороге появилась женщина. На ней был обычный костюм маниотки - юбка из черной бумажной материи с узкой красной каймой, темная, перетянутая в поясе безрукавка, а на голове - коричневый колпачок, обвитый, наподобие чалмы, шелковым платком цвета греческого флага.
Смуглое ее лицо, обветренное, как у приморских рыбачек, поражало внутренней силой, ее большие черные глаза горели живым, чуть мрачным огнем. Глядя на эту высокую, стройную женщину никто бы не поверил, что ей больше шестидесяти лет.
То была Андроника Старкос. Мать и сын после долгих лет разлуки и полного отчуждения оказались лицом к лицу.
Николай Старкос не ожидал встретить мать... Ее появление потрясло его.
Андроника повелительным жестом преградила путь сыну, и несколько скупых слов, произнесенных ею, прозвучали с грозной силой, присущей ей одной:
- Никогда Николай Старкос не переступит порог отчего дома!.. Никогда!
И сын, согнувшись под тяжестью этого запрета, шаг за шагом отступал. Та, что некогда носила его в своем чреве, теперь гнала его, как гонят предателя. Нет, он все-таки подойдет к ней... Еще более решительный жест, немое проклятие остановило его.
Николай Старкос отпрянул. Затем выбежал за ограду и, не оборачиваясь, большими шагами спустился по тропинке с утеса, словно чья-то невидимая рука толкала его в спину.
Андроника неподвижно стояла на пороге и смотрела ему вслед, пока он не исчез во мраке ночи.
Через несколько минут Николай Старкос уже оправился от пережитого волнения и овладел собой; дойдя до гавани, он кликнул гичку и поплыл к саколеве. Десять матросов, завербованных Годзо, уже ожидали его там.
Молча поднялся Старкос на палубу «Каристы» и подал знак сниматься с якоря.
Приказ был выполнен молниеносно. Оставалось только побыстрее поднять паруса на готовом к отплытию судне. Береговой ветер облегчал саколеве выход из гавани.
Не прошло и пяти минут, как «Кариста» уверенно и в полной тишине уже преодолевала извилистый фарватер; команда судна и жители Итилона не обменялись ни единым прощальным приветом.