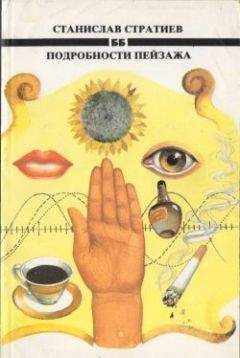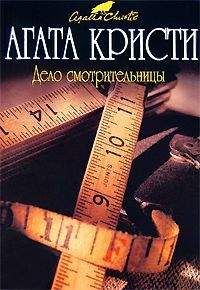Борис Армфельт - Прыжок в пустоту
11 июля 19… Стоит ли писать? Зачем писать, когда знаешь наверное, что эти записки никогда не попадут в руки людей? Писать для того только, чтобы мои записки пережили меня самого на несколько дней или недель, лежали бы здесь около моего трупа, а затем пошли бы ко дну вместе с этой камерой — теперь еще моим жилищем, а потом моим гробом? И все-таки я буду писать, чтобы хоть сколько-нибудь занять это ужасное, еле двигающееся время…
15 июля. Да, я буду писать, чтобы не сойти с ума, чтобы занять мысли, а главное, чтобы занять глаза и отвлечь их хоть на время от этого гнусного зрелища… вода и водоросли… я вижу их даже во сне, эти отвратительные серо-зеленые скользкие стебли и мясистые листья, более похожие на какие-то ядовитые плоды, что-то среднее между огурцом и виноградом… меня тошнит от них…
Если бы я был по крайней мере один! Но она все время тут, около меня, и ни мне, ни ей некуда уйти. Она все время молчит и ненавидит… за что? Разве я виноват, что я — не он? Что он далеко, а я тут, рядом? Но она так несчастна; ведь она потеряла все: отца, жениха и, наконец, зрение!.. Но нет, я не вынес бы одиночества. Один среди этих водорослей… нет, только не это!
16 июля. Я принял решение: записывать свои впечатления изо дня в день, с часа на час, — не стоит: фактов нет, а есть лишь мучения… их все равно не опишешь. Я изложу лучше по порядку все пережитое мною в этой камере с момента нашего отправления. Это заставит меня отвлечься от ужасной действительности. И, кроме того, вдруг… кто знает? Может быть и найдут эти записки? Итак… Как давно это было! Это было 9 июля, в три часа пополудни, когда я покинул общество элегантных, веселых, торжественно настроенных людей, собранных в великолепной кают-компании за роскошно сервированным столом, и перешел на палубу миноносца, а потом, по тонкой, дрожащей железной лестнице, поднялся в эту тесную коробку. Я вошел последним; первой вошла Мари, за ней сам профессор, не удержавшийся и тут от театрального жеста по адресу смотревшей на нас команды миноносца.
Я закрыл за собою люк и завинтил его изнутри. Сквозь металлические стенки камеры я слышал шум отходящего миноносца; слышал, как он остановился у задней части снаряда, и потом снова пошел полным ходом. Это он зажег фитиль ракеты и теперь спасался… Люди сделали свое дело и теперь предоставляли нас нашей судьбе.
Боялся ли я в этот момент? Тщательно анализируя теперь свои воспоминания, я нахожу все, что угодно, но вовсе не страх. За завтраком на крейсере я выпил слишком много вина и чувствовал себя очень скверно. Мне хотелось ясно и отчетливо перечувствовать каждую из этих исключительных минут моей жизни, чтобы потом навсегда удержать эти воспоминания, но все представлялось мне смутно и беспорядочно. Я досадовал и на себя, и на профессора; мне не давала покоя моя неудавшаяся речь, позволившая ему даже на этот раз выставить себя единственным творцом и инициатором нашей экспедиции, — право, принадлежавшее мне с начала до конца. Я не сумел использовать доброжелательную и справедливую речь министра и сразу в ответной речи разъяснить всей публике истинное положение дела и свои права. Я упустил момент, а потом еще хуже… пил, когда не следовало пить! Конечно, министр теперь чувствует ко мне только сострадательное презрение…
Таковы были мои мысли в продолжение этих минут, пока горел фитиль и огонь, приближался к заряду ракеты. Я все еще был мысленно за столом кают-компании и произносил про себя разумную, убедительную речь, доказывавшую с полной ясностью, что мне принадлежит и первоначальная идея экспедиции, и математический расчет всех частей снаряда, — словом все, что, пока я вычислял и проектировал, — профессор ездил по всем городам Европы и узурпировал мои права… Я был весь в этих «земных» интересах, и они вытеснили даже самую мысль о возможной сейчас смерти.
А время между тем шло и шло. Профессор с дочерью ушли в переднюю часть камеры, где были сосредоточены рычаги приводов к опорным поверхностям и рулям снаряда; это «машинное» помещение было отделено переборкой от задней части камеры, где находились все инструменты для производства заранее, намеченных научных наблюдений в заатмосферном пространстве. Они тихо разговаривали между собой и не обращали на меня никакого внимания.
По предварительному соглашению, мне пришлось взять на себя всю работу по производству наблюдений, при чем Мари должна была помогать мне. Сам профессор, со свойственным ему легкомыслием, взялся управлять снарядом. Наша судьба была, так сказать, в его руках, но другого выхода не было, раз инженер Лаваред, узнав а банкротство своего предполагаемого зятя, отказался от участия в экспедиции. Впрочем, без этого обстоятельства для меня не оказалось бы места…
Всё эти мысли беспорядочно толпились в моей, голове и не оставляли места для сознания действительности; раз, другой, я заставлял себя подумать об окружающем, но сейчас же опять мною овладевали переживания прошлого и связанное с ними раздражение. Все это не оставляло места для ожидания и страха.
И вдруг камера дрогнула, рванулась, донеслась, и я, каким-то чудом удержавшись на ногах, оказался с непреодолимой силой прижатым к задней стенке камеры. В тот же момент дверца из переднего отделения, резко хлопнув, открылась, и оттуда вылетели Мари и профессор; опрокинутые на пол, они катились, пока стойки и опорные части инструментов, загромождавших заднее отделение камеры, не задержали их.
Это было самое простое и естественное явление — следствие ускорительного движения; его испытывают пассажиры поезда, когда он резко меняет скорость, напр., отходя от станции с неопытным машинистом. Но в настоящем случае оно было несравненно сильнее выражено и, кроме того, имело длительный характер: ракета неслась вперед, непрерывно увеличивая скорость, и ее ускорение воспринималось нами, как сила, действующая на наше тело в обратном направлении.
Это в высшей степени неприятное состояние длилось минуты две, может быть — три; я не могу подробно восстановить их в памяти, а тем более описать. Мари стонала на полу, прижатая боком к постаменту спектроскопа; профессор произносил речь, состоявшую сплошь из криков боли и ругательств; что делал я сам — не помню; вероятно, тоже ругался. Во всяком случае, каждый из нас был как бы скован и заботился только о себе.
Наконец скорость ракеты достигла своего возможного максимума, и движение ее сделалось равномерным. Я почувствовал свободу и невыразимое физическое облегчение. Профессор с несвойственной ему поспешностью направился в переднее отделение, освещенное большими иллюминаторами со всех сторон; я же стал смотреть через маленькие иллюминаторы задней стенки и пола. Снаряд несомненно летел уже на значительной высоте, но на какой именно — определить было трудно; в нижний иллюминатор можно было рассмотреть только безграничную ярко освещенную белую поверхность — очевидно верхний слой облаков; непосредственно под нами он казался на неизмеримой глубине, а дальше, к краям горизонта, словно поднимался вровень с глазами, образуя как бы огромную чашу. В задний иллюминатор я видел поверхности двух цилиндров и далеко извергавшийся из них «хвост», к виде двух мощных струй кружащегося дыма.