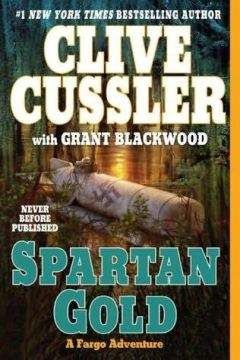Томас Диш - Концлагерь
— Судя по „Тайму“? — несколько озадаченно поинтересовался я и глянул на генерала с обложки (Фи-Фи-Фо-Фам из северной Малайзии или еще какая желтая угроза), словно тот мог бы разъяснить.
— Это региональное издание. „Тайм“ выходит в разных региональных изданиях. В рекламных целях. Горные штаты — это Айдахо, Юта, Вайоминг, Колорадо… — Он перечислил все до единого, словно аккорды на гитаре перебрал.
— А! Теперь понимаю. Не сразу сообразил.
Он издал тяжелый вздох.
Я протянул руку, на которую он уставился с явной неохотой. (Кое-где, особенно на западном побережье, из-за бактериологических бомбардировок рукопожатие считается дурным тоном).
— Меня звать Саккетти. Луи Саккетти.
— А! Да, конечно! — Он конвульсивно стиснул мою ладонь. — Мордехай говорил, что вы приезжаете. Я так рад с вами познакомиться. Просто слов не хватает… — Он осекся, густо покраснев, и отдернул руку. — Вагнер, запоздало пробормотал он. — Джордж Вагнер. — Потом, не без горечи в голосе:
— Вы-то обо мне точно ничего не слышали.
С подобной формой представления мне приходилось сталкиваться настолько часто — на чтениях или симпозиумах, знакомясь с аспирантами и авторами малотиражных журналов, рыбешкой мельче даже, чем я, — что реакция выработалась совершенно автоматическая.
— Нет, Джордж, боюсь, не слышал. Собственно, я удивлен, что вы обо мне-то слышали.
Джордж фыркнул.
— Он, собственно, удивлен… — нарочито гнусаво протянул он, — что я слышал… о нем!
Я не знал уже, что и подумать.
Джордж зажмурился.
— Извините, — едва слышно прошептал он. — Свет. Слишком яркий свет.
— А что это за Мордехай?..
— Мне нравится тут, в коридоре, потому что ветер. И я опять могу дышать. Вдыхать ветер. Если суметь… — Или, может, он сказал „шуметь“, потому что поправился:
— Если не шуметь, можно расслышать их голоса.
Я действительно совершенно не шумел, но единственное, что было слышно, — это рокот кондиционеров, словно гул в поднесенной к уху морской раковине, угрюмые порывы зябкого ветра в зигзагах коридора.
— Чьи голоса? — спросил я не без внутреннего трепета.
— Как это чьи? — Между белых бровей Джорджа пролегла глубокая складка. — Ангелов, разумеется.
„Псих“, — подумал я и тут вдруг понял, что Джордж цитирует мне мое же стихотворение — полупарафраз, полупародию на тему „Дуинских элегий“. Чтобы Джордж, этот наявняк наивняком из Айовы, с такой легкостью бросался цитатами из моих стихов, причем публиковавшихся только в периодике… легче было думать, что он просто спятил.
— Вы эти стихи читали? — спросил я.
Джордж кивнул, и спутанная соломенная, с шелковистым блеском прядь совсем закрыла бледные глаза, словно бы в смущении.
— Это не очень хорошие стихи.
— Нет, наверно, не очень. — Ладони Джорджа, до настоящего момента занятые друг другом у него за спиной, опять поползли вверх, к лицу Они откинули со лба длинную челку да так и замерли на макушке, словно в силок угодив. — Все равно, это правда… их голоса действительно можно расслышать. Голоса тишины. Или дыханье, это одно и то же. Мордехай говорит, что дыханье — тоже поэзия. — Ладони медленно наползли на бледные глаза.
— Мордехай? — настойчивей переспросил я.
Я все никак не мог — да и до сих пор не могу — отделаться от ощущения, будто где-то когда-то слышал это имя. Но обращаться к Джорджу было все равно, что кричать вслед лодке, неумолимо влекомой течением прочь.
— Уходите, — содрогнувшись, прошептал он. — Пожалуйста.
Но я не ушел — по крайней мере, не сразу. Я стоял прямо перед ним — а он, казалось, совершенно не осознавал уже моего присутствия. Закрывая лицо руками, он медленно покачивался с пятки на носок, с носка на пятку. Поток воздуха, с размеренным шипением вырываясь из вентилятора, теребил его легкую шевелюру.
Джордж говорил сам с собой — вслух, но еле слышно; я разбирал только обрывки.
— Суставы света, проходы, ступени… — Слова звучали смутно знакомо. Вместилища сути, ограды блаженства.
Вдруг он оторвал руки от лица и уставился прямо на меня.
— Вы еще здесь? — спросил он.
И, хотя ответ был самоочевиден, я сказал, что да, я еще здесь.
В коридорной полутьме зрачки его глаз были расширены; вероятно, из-за этого он и казался таким печальным. Он опять возложил три пальца мне на грудь.
— Мы красотой восхищаемся, — очень серьезно проговорил он, — ибо она погнушалась уничтожить нас.
И, сказав так, Джордж Вагнер изверг в идеально эвклидово пространство коридора весь, без остатка, завтрак, и внушительный. Чуть ли не в тот же самый момент вокруг завихрились охранники выводком черных куриц-несушек, дали Джорджу ополоснуть рот, подтерли пол, развели нас каждого в свою сторону. Мне тоже дали чего-то выпить. Подозреваю, успокоительного; иначе вряд ли меня хватило бы на то, чтобы задокументировать происшедшее.
Нет, но какой странный парнишка! Юный селянин цитирует Рильке. Я б еще понял, если бы юные селяне цитировали Уиттиера или даже Карла Сэндберга. Но „Дуинские элегии“?[6]
6 июняБесстрастные цифры нержавеющей стали, приклеенные к прозаической двери светлого дерева, а под ними — белыми буквами, высеченными на прямоугольнике черного пластика (вроде банковской таблички, на одной стороне которой указывается имя кассира, а на другой написано „Пожалуйста, пройдите в следующее окошко“),
„Д-р Э. БАСК“.
Охранники завели меня в кабинет и вверили суровому попечению двух стульев, которые — паутина черной кожи, натянутая на каркас хромированной стали, — представляли собой не более чем абстракцию (если не сказать алтарь) самих охранников. Стулья от Харлея-Дэвидсона. Угловатые картины (подобранные, дабы угодить таким стульям) распластались по стенам, тщась обрести невидимость.
Доктор Баск размашистым шагом заходит в комнату и угрожающе протягивает ко мне ладонь. Ответить на рукопожатие? Нет, это она просто предлагает садиться. Я сажусь, она садится, скрещивает ноги, щелк-щелк, подтягивает подол юбки, улыбается. Улыбка сравнительно достоверная, если и не дружелюбная, слишком тонкогубая, слишком деловая. Высокий чистый лоб и выщипанные брови; ну вылитая дворянка елизаветинских времен. Лет сорок? Скорее, сорок пять.
— Прошу прощения, мистер Саккеттти, что не подала вам руки, но будет лучше, если мы с самого начала не станем лицемерить. Вы же тут не в отпуске, правда? Вы заключенный, а я?., правильно, тюремщик. Вот почва для честных, хотя не факт, что особенно приятных отношений.
— Под честными имеется в виду, что мне тоже будет позволено вас оскорблять?