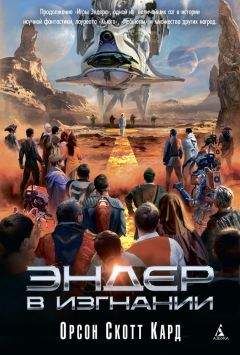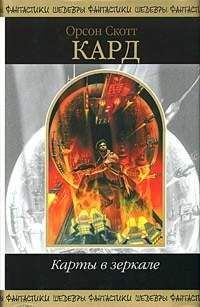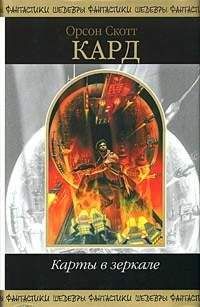Орсон Кард - Песенный мастер
— Обещаю.
— Не мсти за меня. Поклянись. Своей жизнью или же своей любовью ко мне.
Анссет дал клятву. Дверь слетела с петель. Солдаты убили Майкела в лазерной вспышке, превратив его тело в пепел. Они не прекращали палить, пока труп весь не превратился в золу. После этого они собрали останки. Анссет только глядел, поскольку дал слово, но всем своим сердцем он желал, чтобы в его сознании была какая-нибудь стена, за которой можно было бы спрятаться. Но, к несчастью, сознание его оставалось слишком ясным.
22
Двенадцатилетнего Анссета и пепел отвезли к императору на Сасквеханну. Пепел поместили в огромную урну и выставили на всеобщее обозрение со всеми почестями. Всякий говорил, что Майкел умер от старости, и никому не могло прийти и в голову, что могло случиться что-то иное.
На похоронах Анссета охраняло множество гвардейцев из страха перед тем, что могут натворить его руки.
После поминок, на которых каждый притворялся опечаленным, Рикторс вызвал Анссета к себе. Охранники пошли было за мальчиком, но Рикторс отослал их всех одним движением руки. На его голове блестела корона.
— Я знаю, что тебя мне опасаться нечего, — сказал Рикторс.
— Ты — лживый сукин сын, — тихо, так чтобы мог слышать только Рикторс, сказал Анссет, — и если бы я не дал слово человеку, намного лучшему, чем ты, то смешал бы тебя с грязью.
— Если бы я не был лживым сукиным сыном, — с улыбкой ответил ему Рикторс, — Майкел никогда бы не передал империю мне.
После этого Рикторс поднялся с места.
— Друзья мои, — сказал он, и все присутствующие озарились улыбками. — С нынешнего дня я буду зваться не Рикторс Ашен, а Рикторс Майкел. Имя Майкел будет переходить ко всем моим наследникам трона в честь человека, который воздвиг империю и принес мир всем людям.
Рикторс уселся среди всеобщего шквала аплодисментов и здравиц, звучавших так, как будто кое-кто из присутствующих провозглашал их от чистого сердца. Для импровизированной речи эта была чудесной.
После этого Рикторс попросил Анссета спеть.
— Уж лучше я умру, — ответил на это мальчик.
— Когда придет твое время, так оно и будет. А теперь спой — ту самую песню, которую Майкел желал, чтобы ты исполнил на его похоронах.
И тогда Анссет запел, стоя на столе, чтобы каждый мог видеть его, как уже однажды он пел для людей, которых ненавидел, в свой последний вечер пленения на корабле. В его песне не было слов, потому что все слова, которые он мог произнести, были бы словами измены, и они могли бы так разбередить слушателей, что они бы растоптали Рикторса на месте. Вместо слов Анссет пел только лишь мелодию, перетекающую из одного настроя в другой, каждая нота прокалывала его горло будто тернии, принося боль в каждое слышащее ее ухо.
Песня перебила банкет, потому что притворная печаль превратилась для каждого в печаль истинную и жгучую. Многие отправились по домам в слезах; все испытывали глубочайшую боль от потери человека, чей пепел теперь тонким слоем пыли покрывал внутренности урны.
Когда же Анссет закончил петь, возле стола остался один только Рикторс.
— Теперь, — сказал мальчик, — они никогда не забудут Отца Майкела.
— Или же его Певчую Птицу, — заметил на это Рикторс. — Но теперь это я Майкел, то самое большее, что смогло остаться от него: имя и империя.
— В тебе нет ничего от Отца Майкела, — холодно ответил Анссет.
— Так уж и ничего? — тихо сказал Рикторс. — Неужели ты обманывался жестокостью Майкела перед публикой? Ведь нет же, Певчая Птица.
И в его голосе Анссет услышал боль, таившуюся за маской жестокого и немилосердного императора.
— Останься и пой для меня, Певчая Птица, — попросил Рикторс, в голосе которого слышалась неподдельная мольба.
— Меня прислали к Майкелу, а не к тебе. Теперь я должен возвратиться домой.
— Вовсе нет, — заметил Рикторс и вынул из кармана письмо. Анссет прочитал его. Это был почерк Эссте, и наставница сообщала, что если Анссет пожелает, Певческий Дом может ангажировать его для службы Рикторсу. Анссет ничего не понимал. Только послание было вполне ясным, слова, без всякого сомнения, принадлежали Эссте. Он доверял ей, когда та приказывала мальчику любить Майкела. И теперь он должен был бы довериться ей.
Анссет протянул руку и коснулся стоявшей на столе урны с прахом.
— Я никогда не полюблю тебя, — сказал он так, чтобы слова укололи как можно сильнее.
— И я тебя тоже, — ответил Рикторс. — Но, тем не менее, мы сможем дать пищу друг другу, когда будем голодны. Майкел спал с тобой?
— Он никогда не хотел этого. А я никогда не предлагал.
— Я тоже никогда не предложу, — сказал Рикторс. — Единственное, чего я хочу, это слышать твои песни.
Когда Анссет решился ответить, его голосу не доставало силы. Поэтому он смог только кивнуть. У Рикторса же хватило такта не усмехнуться. Он тоже кивнул в ответ и отошел от стола. Прежде, чем он дошел до двери, Анссет спросил:
— Как ты поступишь вот с этим?
Рикторс глянул на урну, на которую положил свою руку мальчик.
— Останки принадлежат тебе. Делай с ними все, что хочешь.
И после этого Рикторс вышел.
Анссет забрал урну с прахом в ту комнату, где он с Отцом Майкелом спели друг другу так много песен. Очень долго мальчик стоял перед камином, перебирая воспоминания в памяти. Он вернул все свои песни Отцу Майкелу, а затем, с чувством огромной любви, он поднял урну и высыпал ее содержимое в огонь.
И прах затушил пламя.
23
— Передача завершена, — сообщил Песенный Мастер Онн Песенному Мастеру Эссте сразу же, как только дверь в Высокий Зал закрылась за ним.
— Я так беспокоилась, — призналась Эссте в тихой, дрожащей мелодии. — Но песни Анссета сильнее мудрости.
Они сидели вместе в не дающем тепла солнечном свете, пробивавшемся через жалюзи в Высокий Зал.
— Ах! — пропел Песенный Мастер Онн, и мелодия эта была переполнена любовью к Песенному Мастеру Эссте.
— Только не надо хвалить меня. Ведь дар и его могущество принадлежат Анссету.
— Но учителем была Эссте. В других руках мальчик мог превратиться в средство для достижения власти и богатства. Или даже хуже, все его способности могли быть растрачены впустую, и сам он был бы опустошен. А в твоих руках…
— Нет, Брат Онн. Анссет сам в большей мере сотворен любовью и верностью. Он заставляет других желать того, чем сам он уже является. Да, он орудие, но такое, которое нельзя использовать ради зла.