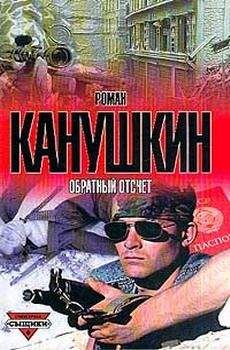Владимир Шибаев - Прощай, Атлантида
" Покайтесь", – и те поползут, тихо скуля и обдирая круглые сладкие коленки к его простертой длани. А тут ряшка.
А все говорило, что так и сбудется. Из-за камешков и огурцов юнцом он много читал: прочел модный тогда Устав коммунистической молодежи до корки и еще Устав духовного училища, найденный недалеко от церкви возле помойного сборника.
Гафонов вскинул голову и поглядел на выскочившие впереди громадные волшебные свечи куполов их собора, закинул еще голову на спину и упал и стал разглядывать чертящую в небесах цифры и узоры линию ворон или галок. Эти птицы орали Гафонову: дурак, дурень, скоро рак, в тебе брак и … крах.
Да, не вылепился из него томный красавец. А прочел ведь еще, жмурясь ночами, Графа Монте-Кристо в темнице, но на бульварных и альковных приключениях заснул, а потом и "Как закалялась сталь".
Теперь же больше всего ненавидел этих башибузуков, думал о себе Гафонов, с трудом подталкивая себя встать, этих мальчишек с камнями на митингах. Сегодня все пошло под откос из-за них, он уже вошел в раж, разогрелся и завопил заветные заученные сердцем слова, побуждая быдло терзаться, стенать и выламывать колья. Сбили его негодные метатели, и еще эти двое – даун и по виду шлюшка, свернувшие людское болото на песнопения. Был бы он поэт, или хоть песенник, разве отняли бы у него толпу? Нет. Правда, попал однажды по дури на год корреспондентом набитого побитыми молью демагогами политеженедельника на Кубу, так как назревала пандемия малярии, или испанка, а платили по той нищете – не хватало завезти с родины гречку, и другие – зубастые и с папами, отступились.
Это было время. Год пролетел пьяной пеной пота на бесконечных танцверандах-посиделках среди гибких заразных мулаток и креолок, липких от рома и пахнущих сигарами, жженым сахаром и соленой рыбой. Через полгода он начал падать в корпункте, не узнавал далекий телефонный визг начальника и был из этой жизни вырван, как сгнивший зуб, и отозван.
При этом уже устойчивое время рухнуло, полетели вонючим холодным туманом перемены, и стало плохо. Плохо одетый Гафонов наряжался Дедом Морозом и таскался на общественные и буржуйские подачки в тесные каморки работяг, где пылились еле ряженые пластмассовые пугала-елочки, а испуганные чумазые детишки шарахались, подталкиваемые в спины угрюмыми мамашами-чесальщицами, от орущего глупости и не знающего жизни дядьки с одноразовым подарком.
Ходил он и в погостные сторожа, где выпив отравы, встречал и покойников, спокойных, молчаливых и синих. Был и трамвайным кондуктором, контролером, младшим мотальщиком, и в почте служил, задыхаясь, таскал тележки с газетами по падающим ото льда улицам.
Но главное, на погосте, гонимый ночными кошмарами, он начал пописывать, в смысле – сочинять. У него образовалась целая коллекция шикарных ручек, которые вкладывали заботливые тупые родственники в кармашки глаженых обрядных костюмов, если покойник был не прост и любил накладывать резолюции. Глупость людская безмерна.
Он описал мулаток, когда это стало модно, которые умело извиваются на простынях и шуршат светлыми пятками самбу. Но в редакциях " На абордаж" и "Осень садовода" сочувственно хихикнули и посоветовали присобачить креолов и ихних детей-подростков, рубящих сплеча сахарные джунгли. Работающих не покладая времени и сил. " Да они ни черта не делают, только плюют на брюки и перебирают ступнями под боссанову", – возразил Гафонов. " Они пусть перебирают, – возразили в редакциях. – А у нас пусть вкалывают за небольшие песы и сдают под расчет бригадирам". Тогда Гафонов, пугая окриками ночных могильных бродяг, написал эссе про море, рыбака и огромную рыбу, которая сжирает поживку, катер и, подплыв и угрюмо оглядев охотника, плюется и уплывает, оставляя его, немощного и бледного, посреди морской синевы думать о бренном и вечном. Не ощутить восторг пляшущего самбу Гафонова, когда он держал в руках присланный экземпляр " На страже Балтфлота" со своим творением рядом с виршами юнг-юмористов. Правда, вместо гонорара денег, в посылке оказалась еще бескозырка и пара лент неизвестного назначения.
Тогда он начал писать про то, как ребята, наши же простые хлопцы, собирали-собирали бумагу, а потом плюнули и начали собирать государственный металлолом и сдавать государству. Писал и про женщину из богатого дома, которая от переедания деликатесов и передозировки любовников свихнулась и сиганула под электропоезд, переехавший ее ровно пополам и сделавший калекой. Ничего не шло. Приносил про сбор стеклотары, давай про богатую под колесами. Притаскивал про перетертую поездом красавицу с расплющенными волосами, давай, как она любила перед этим на полях убирать свеклу.
Тогда он полыхнул ненавистью к матросам, мулаткам, почтальонам, удавил одного настырного бродягу и возле холмика, где тот обливался последней блевотиной, произнес короткую речь:
– Желтая жизнь, отпетые дни, мокрый мор и скользкая слизь, – и покружил, растопырив руки, вокруг хрипящего отщепенца. – Восстань уделанная удаль, воспрянь мстительная мгла и покрой кров врагов наших, и аз воздам…
Тут случилось немыслимое, от такой речи завопил вдруг испускающий дурной дух удавленник, вполз на колени, вышатнулся почти в полный рост и завопил, давясь дыханием:
– Ага…да…Да! – и рухнул, почти недвижим.
Тут Гафонов понял, что он не писатель, а оратор. С того дня стал кружить по рабочим слободкам, по замусоренным подвалам и потным пивнухам – и мутил словами. Так-то он, после заразных гибких шкодниц, совсем было потерялся, застарелый недолеченный триппер высосал все чресла, и женщины плевали ему вслед. Но когда открыл в себе силу кружения и фонтан-скважину гибельных слов, почувствовал раз, а потом и два, и более – как напирает в него мутная мгла страсти, бежал тогда в сторону вокзала без оглядки – искал знакомую или случайную, которую мог после дерганий перед толпой, хорошего ора и возлияний крика довести так, что вылезала из кожи.
Опять оглянулся Гафонов бледным лунным лицом, ничего не увидев, кроме тащащегося по его следам ветра и двух псин, стерегущих, когда вскочит дохлая кошка. Он труханул звякнувшую битым стеклом дверь известного ему заведения, прошел в угол, ставя косые ступни след в след, к своему частому столику, и услужливый бармен поставил перед ним бокал красного вина.
Гафонов оглядел мутными глазами помещение и не понял, где он. В двух – трех местах, где он обычно появлялся после вселенского ора, и звались которые примерно так – "Приют беременного", "Дом, где разливаются сердца" и еще этот… "Стойло осла пегаски", кучились во всех них все те же постояльцы и забегающие. Это были отщепенцы-художники, нахватавшиеся неудов по рисунку, а теперь промышлявшие хорошо продаваемыми западным богатым агентам влияния инсталляциями типа: " насрать в пустой темной комнате и впустить зрителей", словоблудствующие, харкающие пылью засценка актеры, экспериментирующие с их женами выродки-режиссеры, всякие бутафоры, оформители случайных будуаров, посредники в продаже уже вырубленных лесов, врачи, научившиеся бодро сгонять с богатеньких лишний жир и прочая интеллигентская сволочь.