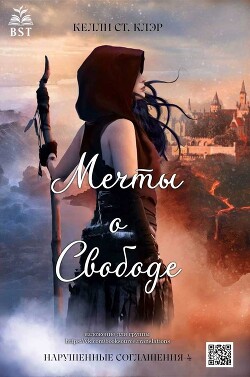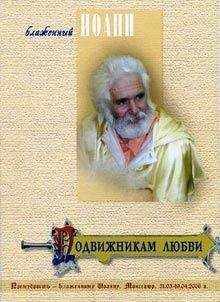Любовь, смерть и роботы. Часть 1 (ЛП) - Миллер Тим
— Всякое бывает, — вздохнула я. — Поэтому я всегда стараюсь, чтобы рядом была AM. В этом случае никто не осмелится оспорить сказанное.
— Для моей истории это значения не имеет, — заверил Зима. Я ошарашенно уставилась на него.
— Вы что-то недоговариваете? Существует другая причина, по которой вы вытянули мое имя из шляпы.
Ответа на свой вопрос я не дождалась.
Говоря о Голубом периоде, большинство людей имеет в виду эру действительно гигантских полотен. Довольно скоро они стали достаточно большими, чтобы затмить размерами дома, парки и сады. Достаточно большими, чтобы увидеть их с орбиты. Голубые панели высотой в двадцать километров нависали над частными островами или поднимались из штормовых морей по всей Галактике. Расходы не представляли проблем, поскольку у Зимы было множество спонсоров, состязавшихся за то, чтобы оплатить самое последнее и самое большое произведение. Панели продолжали увеличиваться в размерах, пока не потребовались сложные механизмы, чтобы противостоять силе тяжести и погодным условиям. Они пронзали верхние слои планетных атмосфер, устремляясь в космос. Они излучали собственное мягкое свечение. Они изгибались арками и веерами, так что все визуальное пространство наблюдателя наполнялось голубизной.
К тому времени Зима стал невероятно знаменит даже среди людей, не особенно интересовавшихся искусством. Его считали чудаковатым киборгом, ваяющим огромные голубые сооружения, затворником, который никогда не дает интервью.
Но это было сто лет назад. И Зима еще далеко не достиг вершины своего творчества.
Постепенно структуры становились чересчур громоздкими, чтобы размещать их на планетах. Зима с легкостью перебрался в межпланетное пространство, создавая обширные, свободно плавающие голубые панели десяти тысяч километров в поперечнике. Теперь он работал не кистями и красками: целая армия роботов-шахтеров разрушала астероиды, чтобы получить исходный материал для его полотен. Ныне за честь спонсировать работы Зимы боролись целые звездные колонии.
Примерно в это время мой интерес к работам Зимы пробудился вновь. Я посетила одно из его «лунных обертываний»: заключение целого небесного тела в голубую емкость с крышкой, похожей на шляпу. Два месяца спустя он покрыл весь экваториальный пояс газового гиганта голубыми пятнами, и я была свидетельницей этого события. Через полгода изменился химический состав поверхности кометы, проходившей вблизи Солнца, так что она распустила голубой хвост, забрызгав всю Солнечную систему. Но я ни на шаг не приблизилась к цели. Продолжала просить об интервью и неизменно получала отказы. Я знала одно: в одержимости Зимы есть нечто большее, чем простой каприз художника. И без понимания сути этой одержимости у меня выйдет не история, а всего лишь анекдот. Я не специализируюсь на анекдотах.
Поэтому я ждала и ждала. И вдруг узнала о последнем шедевре Зимы. Я отправилась в фальшивую Венецию на Мюреке, даже не надеясь на интервью. Я просто должна была оказаться там.
Раздвинув стеклянные двери, мы вышли на балкон. По обе стороны белого стола стояли два простых белых стула. На столе — напитки и ваза с фруктами. За неогражденным балконом круто спускалась к морю бесплодная земля, позволяя увидеть набегающий на песок прибой. Вода была спокойной и манящей. Опускающееся за горизонт солнце отражалось в ней серебряной монетой.
Зима жестом пригласил меня сесть.
— Красное или белое, Кэрри?
Я открыла рот, но не издала ни звука. Обычно в краткий миг между вопросом и ответом за меня делала выбор AM, теперь же отсутствие подсказки сбило меня с толку.
— Думаю, красное, — решил за меня Зима. — Если, разумеется, у вас нет принципиальных возражений.
— Не то чтобы я не могла сама решать подобные вещи, — пробормотала я.
Зима налил мне бокал красного и поднял к небу, чтобы полюбоваться цветом и прозрачностью.
— Разумеется, — кивнул он.
— Просто все это несколько странно для меня.
— Но здесь не должно быть ничего странного. Именно так вы жили сотни лет.
— Хотите сказать, естественной жизнью.
Зима налил красного вина и себе, поднес к лицу, вдыхая аромат. — Да.
— Но что же естественного в том, чтобы прожить тысячу лет? — пожала я плечами. — Моя органическая память достигла точки насыщения примерно семьсот лет назад. Голова похожа на дом, где слишком много мебели. Для того, чтобы что-то внести, нужно прежде что-то вынести.
— Давайте для начала обратимся к вину, — предложил Зима. — Обычно вы полагаетесь на совет AM, верно?
— Естественно.
— И AM всегда предлагает одну из двух возможностей? Например, всегда красное или всегда белое вино?
— Все не так просто, — возразила я. — Имей я какие-то предпочтения, AM неизменно рекомендовала бы один сорт вина. Однако иногда мне нравится красное вино, иногда — белое, а иногда я вообще не хочу вина.
Я надеялась, что моя досада не слишком очевидна. Но после замысловатой затеи с голубой карточкой, роботом и такси не хватало еще обсуждать с Зимой собственную несовершенную память.
— В таком случае ваш выбор произволен? И AM все равно, что назвать — красное или белое?
— Нет, это не совсем так. AM следует за мной сотни лет. Она видела, как я пью вино тысячи раз, в тысяче различных ситуаций. И знает с высокой степенью надежности, что мой выбор будет обусловлен определенными параметрами.
— И вы беспрекословно следуете совету? Я пригубила вино.
— Конечно. Не будет ли ребячеством делать все наперекор, только чтобы самоутвердиться? Кроме того, обычно я вполне удовлетворена предлагаемым выбором.
— Но если не игнорировать эти советы хотя бы время от времени, не станет ли ваша жизнь набором предсказуемых реакций?
— Может быть, — кивнула я. — Но разве это так уж плохо? Главное, что я счастлива.
— Я вас не критикую, — улыбнулся Зима, откидываясь на спинку стула и словно рассеивая этим движением напряжение, вызванное довольно бесцеремонным допросом. — В наши дни не так много людей пользуется AM, верно?
— Мне трудно сказать.
— Менее одного процента всего населения Галактики. Зима снова понюхал вино и посмотрел на небо через бокал.
— Почти все остальные смирились с неизбежным.
— Необходимы приборы, чтобы управлять тысячелетней памятью. И что тут зазорного?
— Приборы, да, но другого порядка, — возразил Зима. — Нейронные имплантанты, внедренные в самосознание пациента. Неотличимые от биологической памяти. Вам не придется расспрашивать AM о выборе вина и не придется ждать подтверждения. Вы просто будете точно знать.
— А в чем разница? Весь мой прошлый опыт записан прибором, который сопровождает меня повсюду, где бы я ни была. Прибор не упускает ничего и настолько эффективен, что заранее предвосхищает вопросы, так что мне почти не приходится спрашивать.
— Но прибор уязвим.
— Время от времени он требует проверки. И не более уязвим, чем куча имплантантов у меня в голове.
— Вы правы, разумеется. Но у меня есть более веский аргумент, причем не в пользу AM. Прибор слишком совершенен — и не умеет ни забывать, ни искажать.
— Но разве не в этом его назначение?
— Не совсем. Когда вы что-то вспоминаете — возможно, разговор, случившийся сто лет назад, — какие-то детали обязательно забудете или вспомните неточно. И эти неточные детали сами по себе станут частью вашей памяти, с каждым разом обретая текстуру и цельность. Уже через тысячу лет ваше воспоминание о той беседе будет иметь весьма слабое сходство с реальностью. И все же вы готовы поклясться, что все воспроизводите верно.
— Но если со мной AM, я безупречно воспроизведу все подробности и обстоятельства беседы.
— Скорее всего, — согласился Зима. — Но эти воспоминания нельзя назвать живыми. Они нечто вроде фотографии, процесса механического воспроизведения. Это замораживает воображение, не оставляет пространства для неверного воспроизведения некоторых деталей.
Он замолчал, чтобы долить вина в мой бокал.