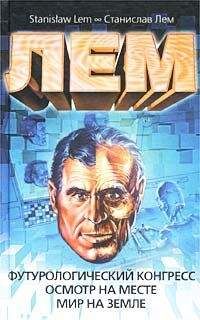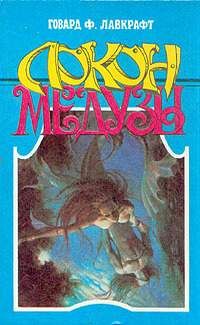Станислав Лем - Осмотр на месте
— А я разве писал когда-нибудь, что открытое общество — это какой-то идеал? — обрушился Поппер на Фейерабенда. — Просто в качестве скептика я всегда выступал за меньшее зло.
— Жаль, что вы этим не ограничились, — заметил Фейерабенд, — потому что ваша концепция научного познания не выдерживает критики, как я показал, — впрочем, не первый и не последний.
— Сам Эйнштейн признал мою правоту, — начал было задетый за живое Поппер, но Фейерабенд не дал ему закончить.
— Об обстоятельствах, при которых Эйнштейн — человек поистине голубиного сердца — признал вашу правоту, вы, лорд Поппер, писали столько раз, что можно ограничиться сноской. Как говорил мне доктор Чиппендейл, Эйнштейн тогда страдал от мигрени и принял уйму таблеток от головной боли, отупляющее воздействие которых хорошо известно.
Обиженный Поппер умолк. Затянувшуюся тишину прервал наконец Рассел:
— Мой уважаемый коллега-философ из палаты лордов имел несчастье родиться системным философом в эпоху, когда системной философии уже быть не может. Надо смотреть правде в глаза, коллега Поппер! Господин Фейерабенд — умеренный анархический экстремист в теории познания, я — неимперативный антиинтуитивный категориалист аналитического стиля, наконец, лорд Поппер — автор нескольких любопытных концепций, а так вообще — несинкатегорематический разогреватель онтологически нейтрализованных зразов в соусе из Circulus Vindobonensis[47]. Из Кружка, в котором Витгенштейн сиял, сиял и, наконец, перестал. А Кружок с тех пор висит себе на колышке. Ведь эклектический синкретизм работ господина Поппера…
— Вы меняете взгляды чаще, чем подштанники! — крикнул обозленный, прямо-таки выведенный из социостатического равновесия лорд Поппер. — Скажи мне, лорд Рассел, что осталось у тебя от дивной поры молодой? Три тома «Principia Mathematica», вымученных за долгие годы. Так вот: спешу сообщить, что Чанг Вэнь или еще какой-то Пинг-Понг — не запоминаю я этих китайских имен — запрограммировал компьютер так, что все доказанное Б. Расселом в его пресловутых «Принципах» машина доказала за восемь минут, со средней скоростью самоубийцы, который бросился с девяностого этажа на Юпитере, где, как известно, сила тяжести во столько же раз больше земной, сколько раз приходящая прислуга господина Тичи ошибалась в счетах из прачечной в свою пользу.
Эти последние слова показались мне до такой степени неуместными, что я сделал над собой усилие — и действительно сразу открыл глаза. На беду, я не знал, когда именно меня сморило, однако признаться в этом постыдился. Но, кажется, потерял я не слишком много, потому что они продолжали препираться, хотя и не так грубо, как мне это приснилось. Чтобы расшевелить их, я подбросил в дискьютер двух люзанистов — одного из них звали Бионизий Рёрен, а другого Пьер Сомон — и, должно быть, под влиянием какой-то одеревенелости мысли из-за долгого пребывания в пустоте подумал, что если бы они были одним человеком и индейцем, то назывались бы Ревущий Лосось[48]. Профессор Сомон оказался ценным приобретением для нашего коллектива как знаток люзанской философии. С XXII века, объяснил он нам, эта философия по своему субъекту релятивистская, а по объекту — прикладная. Иначе говоря, в то время как на Земле субъектом, или попросту философом, всегда является человек, на Энции философствуют также машины и даже облачность, поскольку некоторые разновидности шустров, уносимые ветром, соединяются на границе тропосферы в необычайно разумные тучки-почемучки и умудренные облака, которые, не имея других занятий, рассуждают о смысле бытия. Времена, в которые жил Акс Титоракс, ниспровергатель авторитетов, даже на ложе смерти окруженный верными учениками и полицией, минули безвозвратно. В прошлое канули также проблемы власти, такой или сякой. Настоящие проблемы возникают перед философией лишь тогда, когда благоденствие приобретает устрашающие размеры. Коль скоро неприятностей должно быть все меньше, а радостей все больше, то с логической необходимостью оптимум приходится на максимум благ, свобод, утех и забав и минимум опасностей, болезней и вкалывания на службе. Минимум равен нулю, то есть никакого труда, никаких болезней, никаких опасностей, а максимум расположен там, где сладостность жизни становится неисчерпаемой. Но этого рассчитанного по науке максимума никто не в состоянии выдержать. Где-то по дороге прогресс превращается в собственную противоположность, но где — никому не известно. В этом и состоит так называемый парадокс Шляппенрока и Кикса.
Профессор Рёрен, взяв слово после своего коллеги, разъяснил нам, что дело не так уж плохо, как можно было бы полагать. В любом обществе имеются нытики-староверы, которые тянут назад, к так называемым «добрым старым временам», но возврата к прошлому нет. Напротив: этикосферу следует поднять на новую высоту. Пока что это только проект, разработанный Советом Энтофилов. Идея довольно проста. Любое общество лучше всего подходит людям некоего определенного склада (которые, кстати, вовсе не обязательно входят в его элиту). Они с удовольствием делают именно то, что важно и возможно в их эпоху. В эпоху колониальной экспансии это будут конквистадоры, когда же экспансия распространится на обширные территории — купцы. Это могут быть и ученые — там, где верховодит наука. Или священники — в эпоху воинствующей церкви. Есть люди, которым не по душе спокойные времена, хотя сами они не обязательно отдают себе в этом отчет. Они выходят на авансцену во время всеобщей катастрофы или войны. Есть подвижники, не мыслящие себе жизни без помощи ближним, и аскеты, которые расцветают от воздержания. История — это театр, а общества — труппы актеров, между которыми распределяются роли; но ни одна из поставленных пьес, ни одна историческая эпоха не давала проявиться таланту всех актеров без исключения. Прирожденному великому трагику нечего делать в фарсе, а закованным в латы рыцарям не находится роли в мещанских камерных постановках. Эгалитаризм — это жизненная программа, в которой все выступают на равных и понемногу, и никто не может сыграть великой романтической роли: для нее здесь просто нет места. Бедняги-романтики обречены соперничать между собой в количестве съеденных крутых яиц, езде на велосипеде задом наперед, сопровождающейся исполнением скерцо ля минор на скрипке, и тому подобных чудачествах, которые свидетельствуют лишь о пропасти между мечтами и скрипучей действительностью.
Словом, разные времена отдают предпочтение разным характерам, и в любое время большинство общества служит всего лишь массовкой для избранников судьбы, ибо только по чистой случайности подходящий темперамент появляется в наиболее подходящий для него момент истории.