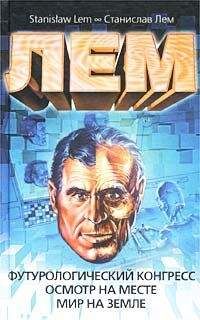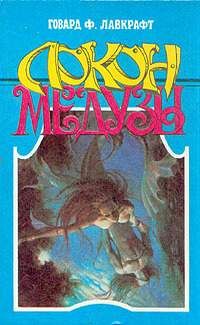Станислав Лем - Осмотр на месте
— Я Руперт Трутти из Массачусетского автофутурологического института, и занимаюсь я, как указывает название моего научного центра, прогнозированием прогнозов, то есть стараюсь установить, что будут предсказывать предсказатели предстоящих столетий. Имею честь сообщить, что, будучи кассетонцем, как называют в обиходе закассеченных лиц, я могу пользоваться резервуарами памяти компьютера, в который меня засадили, без всяких ограничений.
— А кстати, профессор, — перебил я его, — почему вы можете, а те, кто умер давно, не могут? Я прочитал об этом в инструкции.
— Чтобы что-то узнать, — ответил Трутти, — нужно уже что-то знать. Ведь узнавать — значит все услышанное запихивать в голову в определенном порядке. Вот почему никто не помнит первых своих ощущений, когда он был грудным младенцем и ничего ровным счетом не знал. Однако, достопочтенный мой воскреситель, чем больше кто-то узнал в одну эпоху, тем меньше он может узнать в следующую, поскольку голова у него забита старьем, а забита она потому, что вчерашняя святая истина становится нынешним предрассудком и засорением мозгов. Хоть я и цифроник, я могу пользоваться другими частями памяти компьютера, в который вы меня вставили, ведь я имею кое-какие понятия о биологии, психонике, физике и поэтому знаю, что такое экспертолиз и энспертоляция; но засадите-ка сюда Платона, и он ровно ничего не усвоит…
— А в самом деле, что это такое? — полюбопытствовал я.
— Экспертолиз — это растворение экспертов в море избыточной информации, а энспертоляция — защитный условный рефлекс, самоотключение экспертов со страху. Что же касается экспертолястики…
Возможно, это было невежливо, — но я вырубил профессора, опасаясь, что дальнейшие разъяснения лишь затемнят то, о чем я успел у него узнать; усевшись над кучей кассет, я стал размышлять, как составить ученый кружок, чтобы пороскошествовать интеллектуально. О гибернизации я и думать забыл. Разве можно духовное пиршество в компании величайших умов променять на бездумный вековой храп? В конце концов я вставил в компьютер кассеты с Бертраном Расселом, Карлом Поппером, адвокатом Финкельштейном (хотя это был ум minorum gentium[43], я решил включить своего симпатичного знакомого в это общество) и, невзирая на предостережения профессора Трутти, добавил Шекспира. Готов поклясться, что я заказал и Эйнштейна, но, хоть и высыпал на пол все содержимое коробки, нашел только Фейерабенда; в ярости, что не могу заявить рекламацию — ведь я отмахал уже добрых несколько триллионов миль, — я приготовился к диспуту, то есть поставил поудобнее сервировочный стол с подсоленным печеньем и тоником, за спину засунул подушку и включил компьютер. Я съел все печенье и выпил весь тоник и лишь тогда спохватился, что мои кассетные спутники давно уже ведут спор, только звук был приглушен. Я повернул нужную ручку и услышал голос Бертрана Рассела:
— Ум, господин Фейерабенд, это способность разгрызания трудных орешков, поэтому самый блестящий ум можно использовать для решения самых глупых вопросов. Зато мудрость предполагает еще и умение выбирать проблемы.
— Осмелюсь не согласиться с лордом Расселом, — отозвался Фейерабенд. — Мудрость — это, скорее, самопознание, выражаясь классическим языком, а если более современно — поиски пробелов и недочетов в собственном разуме. Разумеется, на сократический лад. Как известно, идиотам кажется, будто они во всем разбираются. Идиот, в особенности законченный, готов немедленно стать президентом США, вы только ему предложите. Человек поумнее сперва задумается, а мудрец, скорее, выскочит в окно. Чрезвычайно высокая концентрация мудрости действует шокообразно и порой заставляет мудреца умолкнуть, хотя молчание Витгенштейна имело иную причину.
— Судя по вашему красноречию, коллега Фейерабенд, вряд ли вам угрожает избыток мудрости, — заметил Рассел. — Не только люди бывают с придурью, имеются также придурковатые философские системы; связано это с явлением, которое я назвал бы феноменом исторической монументализации чего попало. Был английский король, который хотел и благочестивым остаться, и переспать с некоей барышней в качестве законного супруга, хотя уже был женат. И что же? Не желая перебарывать свою похоть, он переделал религию, отделил английскую церковь от Рима и создал тем самым англиканство. Как известно всякому, кто меня читал, Гегель был мыслителем из разряда так называемых очковтирателей и именно этому обязан своей популярностью, хотя уже не такой, как сто лет назад. Ясно выражающийся дурень не столь опасен, как дурень туманный, потому что в тумане легко самому оказаться в дураках. Я позволил себе намекнуть на это в своей «Истории западной философии», и, разумеется, целая свора обиженных дуралеев впилась мне в ляжки. Этот Дьюи, к примеру. К сожалению, правила хорошего тона обязательны не только в палате лордов, но и в философской полемике. Только за гробом можно позволить себе говорить все, что думаешь, начистоту. Но я и так всегда резал правду-матку в глаза, хоть это и дорого мне обходилось. Тот, кто предлагает новую философскую систему, тем самым дает понять, что приблизился к истине больше, чем все, кто жил до него. Значит, каждая такая система предполагает непревзойденную мудрость ее автора. А ведь нормальная кривая распределения интеллекта справедлива и для философов, среди которых предостаточно олухов. Любопытно, что эти мои наблюдения, никому конкретно не адресованные, вызывали такую яростную реакцию…
— А где вы поместите самого себя на кривой распределения мудрости, лорд Рассел? — невинным голосом спросил Фейерабенд.
— Говоря объективно, выше вас, потому что я понял все, что вы написали, а вы написанного мною не поняли, во всяком случае, порядочно меня переврали.
— Да? Но ведь я печатался после вашей смерти…
— А я читал после перенесения меня на кассету. Вы немало у меня позаимствовали, и, конечно, беды в этом нет, только следует называть своих учителей…
— Поскольку я выступаю как чистый духовный экстракт, — заявил Фейерабенд, — уточняю, что сопровождаю эти слова легким пожатием плеч и снисходительной улыбкой. Лорд Рассел всегда пробовал откусить от философского пирога больше, чем мог переварить.
— Это уже из Куайна, — холодно заметил Рассел.
— Не могу же я давать библиографическую ссылку к каждому своему слову! — несколько раздраженно воскликнул Фейерабенд. — Лорд Рассел действительно стал еще менее вежлив, чем был при жизни; он не дает мне докончить ни одной фразы. Так вот: он не только откусывал больше, чем мог, но еще и набрасывался на пирог каждый раз с другой стороны, словно общая онтология — это слоеный пирог или ромовая баба, из которой можно только выковыривать изюм…