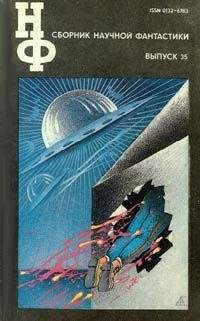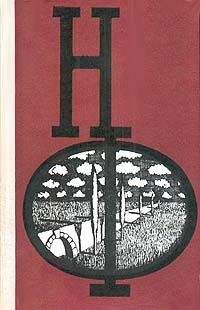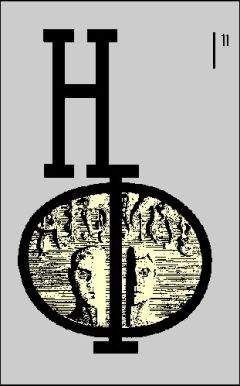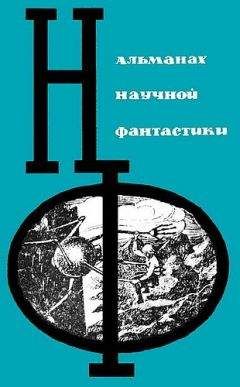Евгений Войскунский - НФ: Альманах научной фантастики 35 (1991)
Допив пиво, я быстро пролистал весь календарь, но ничего похожего не обнаружил. Что-то напутала бабуля, решил я, снег в мае — почему бы и нет, хотя в наших краях такого не припомню. Но она написала «выпадет», а не «выпал»! Странно. Возможно, описка. Когда же это было? Раз… два… еще шесть записей, вычтем из общего числа, прибавим к дате на календаре. Вроде бы в год моего рождения. Минуту или две я размышлял над этим фактом, потом полез в холодильник за второй бутылкой.
И придумал я историю про майский снегопад. Вот живет себе герой и никого, не трогает. Смотрит раз в окно, а там снег идет, дети на санках катаются, снежную бабу лепят. Кто-то елку по снегу волочит. Герой не верит своим глазам, на календаре май, а тут такие погоды! Он бегом во двор — ничего подобного: теплынь, пыльный ветер кругами по городу ходит, все почти в летнем. Он обратно к себе — за окном снег, хоть ты тресни! Ну, разумеется, экспериментум круцис — распахивает окно!.. А там и в самом деле снег, зима… Герой с опаской захлопывает окно, долго и нудно размышляет, и в голову ему лезет всякая ерунда — сдвиги во времени, параллельные миры и прочая фантастическая дребедень. Наконец, он не выдерживает и, высадив окно, сигает вниз. Ну, первый, правда, высокий этаж, ничего страшного. Вот он стоит на снегу, а это вроде и не снег вовсе, вата какая-то под ногами упругая. И улица… Прохожие в шубах, дети на санках и даже большая черная легковая автомашина — все ненастоящее. Картон раскрашенный. В руках у карапуза воздушный шарик тоже из бумаги. Дотрагиваюсь до него — шарик вдруг взмывает в небеса, унося с собой картонную руку малыша…
Вздрагиваю и просыпаюсь. С третьей бутылки я задремал.
В этот день пива я больше не пил.
А на следующий день, как и все обитатели дома, тупо удивлялся снегу, выпавшему в последний месяц весны.
* * *— В високосный год и от погоды можно всего ожидать, но снег в мае — это, знаете ли, слишком!
Голос сверху принадлежал Елене Тиграновне, жене доцента Парсаданова.
— Э, бывает, — отозвался доцент, Вниз полетел окурок.
С Парсадановыми у меня сложные отношения. Елена Тиграновна, женщина с тонкой нервной системой, меня терпела, поскольку мать помогала ей кроить. Но моего подопечного Аршака она не переваривала совершенно. Стоило ему включить магнитофон, как она принималась стучать себе в пол, а Барсегянам в потолок. Аршак выкручивал звук на своей «Комете» до предела. Тогда в качестве ответного удара она сбрасывала весь имеющийся тоннаж — своего мужа. Доцент возникал в шлепанцах, но при галстуке. Подмигивал Аршаку, а затем, выключив музыку, они заходили ко мне, а у меня всегда в запасе было пиво. Через час-полтора доцент возвращался к себе, а жена его пребывала в уверенности, что он ведет воспитательные беседы.
Снег лежал ровно, плотным слоем покрыв двор. Но воздух не был холодным. Завтра все это неуместно белое великолепие растает и грязью потечет по двору.
Только я успел сварить кофе, как пришел Аршак. Сварил и ему. В банке оставалось на самом донышке. Я показал ему банку, он кивнул, вылизал гущу и вышел. «И сахару заодно купи!» — крикнул я вслед.
Надо бы с ним поговорить, все сказать. Сегодня, обязательно сегодня. Или в крайнем случае завтра…
Его шаги были слышны с лестничной клетки, потом хлопнула подъездная дверь. Донесся слабый свист, но уже из окна. Чему он удивился, снегу?
Аршака трудно чем-либо удивить. Помню его маленьким. Серьезный и невозмутимый ребенок. Мало спрашивал, много слушал. Единственный ребенок Барсегянов. Баловали его чуть-чуть, в меру. Его отец был таксистом. Случайно сбил женщину, испугался и, вместо того чтобы помочь, попытался скрыться. Ну и получил восемь лет.
Мать Аршака все эти годы тянула семью и вытянула. К возвращению отца Аршак уже заканчивал школу. Мать его по вечерам подрабатывала шитьем. Дома Аршаку было скучно, он частенько забегал к нам. В шестом классе я немного занимался с ним немецким. После этого он стал пастись у моих книжных полок. Цапнет наугад, сядет прямо на ковер и читает. Вижу — мало что понимает, но ничего не спрашивает. Вопросы он начал задавать в восьмом классе, странные вопросы, скорее, полуутверждения.
«А что, — спросил он как-то, — Блок — дурак?» Я возмутился и обиделся за Сан Саныча, но Аршак невозмутимо ткнул в страницу пальцем. «Вот тут он пишет, что Пушкин — веселое имя…» «Ну и что!» — вспылил я и обрушил на него словеса.
Тогда-то я и стал к нему присматриваться. Присмотрелся и обнаружил, что соседский «несчастный ребенок», как любила приговаривать моя мать, накладывая ему в тарелку чудовищные порции баранины с овощами, исчез, а на его месте возник юноша отнюдь не бледный, но со взором вполне горящим. И в огне своих сомнений он готов был сжечь полмира, а если и понадобится, то весь. Сей отрок, вместо того чтобы преклониться перед моей премудростью и содрогнуться мощи подпирающих меня книжных полок, дерзит вякать и вякает толково.
И я… принял его всерьез. Разница в годах была солидной, почти пятнадцать лет. Некоторое снисхождение к нему мешало возникновению дружбы. Было покровительство, было соответственно уважение, но была ли дружба? Не знаю, не помню…
Впрочем, может ли быть дружба между учителем и учеником?
Вопросами о природе дружбы я не задавался. Общаться с ним было весело и полезно. На веру он ничего не принимал, сомневался во всем и во всех, и если мне удавалось его в чем-либо убедить, то уже не сомневался, что на этот предмет переспорю любого. А спорить мы, завсегдатаи, или, как иной раз себя называли, завсегдатели, места, именуемого копеечкой, любили до зубовного скрежета.
Когда-нибудь у копеечки созреет свой летописец и обессмертит человеко-годы, проговоренные здесь в блестящем фейерверке эскапад и филиппик, проповедей и апологий…
Кофе, кофе и еще раз кофе, а к нему стакан холодной воды — прекрасные вкусовые ощущения, но — бедные зубы! — и разговоры до утра.
Ах, сколько судеб было проговорено там, сколько приговоров вершилось в зеленом шатре, увитом пресмыкающейся растительностью! Снобы звали место нашего обретания ротондой, а циники — кратким синонимом к слову «задница». Именовали оправданно, к копеечке примыкало такое же симметричное полукружие ресторанной площадки, куда нам было не по средствам, а когда по средствам, то скучно.
Говорили, говорили! Да что мы — языки развязались не только у нашего поколения, но именно наше со вкусом заболтало все свои лучшие годы.
Мы сладко и славно спорили об экзистенциализме, высчитывали пророков («Кафка пророк, и Джойс пророк, а Пруст, пожалуй, гений, но не пророк»), открывали для себя сюрреализм («О, Дали!»), присматривались к Вознесенскому, а в это время кто-то трезво оценил, что почем, и, стиснув зубы, лез вперед и вверх, вписывался в структуру, заводил связи. Мы спохватились позже. Ну и ладно…