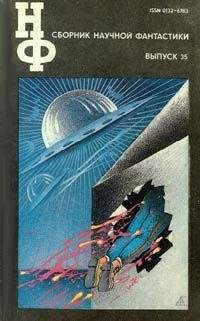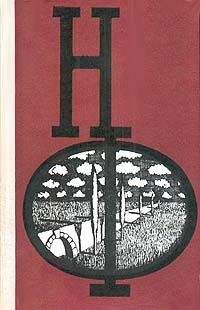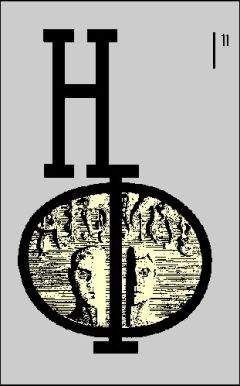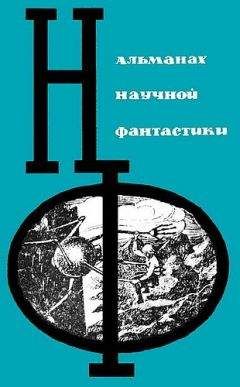Евгений Войскунский - НФ: Альманах научной фантастики 35 (1991)
— А чего это ты чужим добром швыряешься? — ощетинившись, спросил Петро.
— Ты что, совсем чокнулся? — в свою очередь заорал на него Леха. — Он же от тебя не отстанет! Тебя ж отсюда в дурдом отвезут!..
— И запросто!.. — всхлипнув, согласился Петро.
— Ну так отдай ты ему!..
Петро закряхтел. Щетинистое лицо его страдальчески искривилось.
— Жалко… Что ж я зазря столько мук принял?…
Леха онемел.
— А я? — страшным шепотом начал он, надвигаясь на попятившегося Петра. — Я их за что принимаю, гад ты ползучий!?
— Ты чего? Ты чего? — отступая, вскрикивал Петро. — Я тебя что, силком сюда тащил?
— Показывай! — неистово выговорил Леха.
— Чего показывай? Чего показывай?
— Ногу показывай!..
То и дело оглядываясь, Петро протопал к разгромленной двуспальной кровати в углу и, заворотив перину у стены, извлек из-под нее матовую полутораметровую трубу с вихляющимся полированным набалдашником.
— Только, слышь, в руки не дам, — предупредил он, глядя исподлобья. — Смотреть — смотри, а руками не лапай!
— Ну и на кой она тебе?
— Да ты что? — Петро даже обиделся. — Она ж раздвижная! Гля!
С изрядной ловкостью он насадил набалдашник поплотнее и, провернув его в три щелчка, раздвинул трубу вдвое. Потом вчетверо. Теперь посадочная нога перегораживала всю хату — от кровати до печки.
— На двенадцать метров вытягивается! — взахлеб объяснял Петро. — И главное, легкая, зараза! И не гнется! Приклепать черпак полтора на полтора — это ж сколько мотыля намыть можно! Семьдесят пять копеек коробок!..
Леха оглянулся. В окне суетился и мельтешил инопланетянин: подскакивал, вытягивал шеенку, елозил по стеклу лягушачьими лапками.
— Какой мотыль? — закричал Леха. — Какой тебе мотыль? Да он тебя за неделю в гроб вколотит!
Увидев инопланетянина, Петро подхватился и, вжав голову в плечи, принялся торопливо приводить ногу в исходное состояние.
— Слушай, — сказал Леха. — А если так: ты ему отдаешь эту хреновину… Да нет, ты погоди, ты дослушай!.. А я тебе на заводе склепаю такую же! Из дюраля! Ну?
Петро замер, держа трубу, как младенца. Его раздирали сомнения.
— Гнуться будет, — выдавил он наконец.
— Конечно, будет! — рявкнул Леха. — Зато тебя на голову никто ставить не будет, дурья твоя башка!
Петро медленно опустился на край кровати. Лицо отчаянное, труба — на коленях.
— До белой горячки ведь допьешься! — сказал Леха. Петро замычал, раскачиваясь.
— Пропадешь! Один ведь остался! Баба ушла! Уркан — на что уж скотина тупая — и тот…
Петро поднял искаженное мукой лицо.
— А не врешь?
— Это насчет чего? — опешил Леха.
— Ну что склепаешь… из дюраля… такую же…
— Да вот чтоб мне провалиться!
Петро встал, хрустнув суставами, и тут же снова сел. Плечи его опали.
— Сейчас пойду дверь открою! — пригрозил Леха. — Будешь тогда не со мной, будешь тогда с ним разговаривать!
Петро зарычал, сорвался с места и, тяжело бухая — ногами, устремился к двери. Открыл пинком и исчез в сенях. Громыхнул засов, скрипнули петли, и что-то с хрустом упало в ломкий подмерзший снег.
— На, подавись! Крохобор!
Снова лязгнул засов, и Петро с безумными глазами возник на пороге. Пошатываясь, подошел к табуретке. Сел. Потом застонал и с маху треснул кулаком по столешнице. Банки, свечка, стаканчики — все подпрыгнуло. Скрипнув зубами, уронил голову на кулак.
Леха лихорадочно протирал стекло. В светлом от луны дворе маленький инопланетянин поднял посадочную ногу и, бережно обтерев ее лягушачьими лапками, понес мимо невредимого сарая к калитке. Открыв, обернулся. Луна просияла напоследок в похожих на мыльные пузыри глазах.
Калитка закрылась, звякнув ржавой щеколдой. Петро за столом оторвал тяжелый лоб от кулака, приподнял голову.
— Слышь… — с болью в голосе позвал он. — Только ты это… Смотри не обмани. Обещал склепать — склепай… И чтобы раздвигалась… Чтобы на двенадцать метров…
Эдуард Геворкян
ДО ЗИМЫ ЕЩЕ ПОЛГОДА
Памяти Л. КУРАНТИЛЯНА
Майские праздники я любил еще потому, что их много.
И затеял я между торжествами капитальную уборку квартиры, Вымыл окна, протер стекла насухо. Разгреб свалку на антресолях. В прихожей выросла мусорная гора из старых газет и журналов.
Всю эту трухлявую периодику хранила мать. У нее рука не поднималась выбросить бумагу. Мои попытки избавиться от бумажного хлама она решительно пресекала. И каждый раз долго, обстоятельно рассказывала, как во время войны из газет варила папье-маше, а из него делала портсигары, раскрашивала и продавала на черном рынке. Тем и кормились.
У меня на языке вертелись разнообразные шуточки насчет папье-маше, но, глянув в ее строгие глаза, шутки я проглатывал.
На праздники мать уехала к сестре в деревню погостить. Я же собрался с духом и решил ликвидировать старье бестрепетной рукой.
Конец шестидесятых — вот когда это было. О книгах в обмен на макулатуру еще не помышляли. Слухи о книжном буме накатывали мутными волнами, но доверия не вызывали — мало ли что там у них в столице чудят! Так что с книгами у меня была одна проблема — куда ставить?
Книжных полок катастрофически не хватало, приходилось изворачиваться, расставлять их так и этак, впихивать тома в межполочье. Во время одной из перестановок я придумал историю о книжнике, запутавшемся в своей библиотеке. Он собирал себе книги, собирал и насобирал огромную библиотеку. Решил навести в ней порядок, стал составлять каталог. И обнаружил сущую чертовщину: некоторые книги имелись в трех-четырех экземплярах, хотя он готов был поклясться, что не покупал ни одной, — барахло! Другие книги, о которых он помнил, и все ждал свободного времени, может, пенсии, чтобы припасть к ним и обчитаться вдосыть, пропали начисто! А ведь он в закрома свои никого, ни под каким видом… Потом еще хуже — пошли книги на непонятных языках, какие-то альбомы с чудовищной мазней, ящики с дневниками саратовских гимназисток. В итоге библиофил слегка повреждается в уме, обливает книги керосином и… Эту историю он рассказывает в дурдоме тихому психу. В ответ тихий берет его за кадык и душит, приговаривая, что именно его библиофил и спалил, потому что он и есть дневник саратовской гимназистки.
Вот такую историю придумал я тогда. Ребятам в кафе понравилось
Старые газеты и журналы с ободранными обложками я вынес во двор и сложил у общественного мангала — для шашлыка бумага, естественно, не годится, но на растопку — вполне.