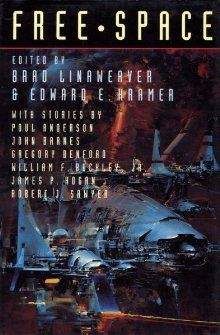Вадим Бабенко - Семмант
Пусть порадуются за меня, пусть им будет приятно, – шептала она в ответ на мой раздраженный вопрос – зачем?
Гладила мне руки, говорила: – Ты хочешь меня наказать? Накажи!
Но нет, наказать ее мне не хотелось. Хотелось лишь посмеяться над странным ходом вещей. Я понимал, это был реванш, она мстила им, как я – всем недотрогам. Мстила за то, что они не умели подчинять – не умели и никогда не смогли бы решиться. Она была много их сильнее и, очевидно, не находила в том прока. Таковы реалии современности, и она жила послушной пленницей реалий. А теперь праздновала свой побег.
Они, оба испанцы, смотрелись довольно-таки жалко. Рафаэль, сорокалетний директор банка, напоминал жабу – короткими ручками и толстым, бабьим лицом. Он заплыл жиром, уже когда я бросила его, – уверяла меня Лидия, но я ей не верил. Он был отвратен, все его тело колыхалось, как кусок студня. В его животе будто переваливался целый хамон иберико.
Рафа, Рафа, – бормотала она, прищурясь, опьяневшая сильней нас обоих. И вдруг сообщила, обращаясь ко мне: – Кстати, Рафаэль очень любит шлюх!
Тот вздрогнул, задохнулся и пошел пятнами. Я поднял на него глаза.
Очень любит, – не унималась Лидия. – Помнишь, Рафито, ты мне рассказывал про бразильянку из ночного клуба? Она танцевала стрип, а ты ее уламывал, как леди. Она ведь брала по твердой таксе, об этом знали все. И Пако знал, и Хосе, и Аранча. Над тобой смеялись, а ты ее обхаживал, как невесту. В конце концов она, вроде, все же взяла твои деньги. Вот только я не помню, хоть за деньги-то она тебе дала? Как ее звали, случайно не Адель?
Покрасневший Рафа силился улыбнуться. Привычка к унижению давно жила в его зрачках. Он являл собой грустное зрелище, но мне не было его жаль. Как не было жаль и второго – высокого и худого, стеснительного, богатого. Он звался созвучно – Мануэль. Я потом посмеивался над Лидией – Рафаэль и Мануэль, Гаргантюа, Пантагрюэль, Рафа и Ману…
Что-то в лице Мануэля намекало на скрытый порок, даже несмотря на воспитание и манеры. Он тоже имел страсть – но не к шлюхам, а к иберийским свиньям. Он охотился на свиней, разводил свиней, сам готовил свинину во всех мыслимых видах.
Лидия с невинной улыбкой спрашивала его про любимых кабанчиков. Про прекрасную черную свинку, чьи фото он слал ей по почте. Ты знаешь, – обращалась она ко мне, – как уродлива эта порода?
Мануэль качал головой, неуверенно улыбаясь. Большая тарелка сырокопченой ветчины стояла перед нами, лоснилась жиром. От нее шел аппетитнейший запах. И от Лидии пахло – ароматом Гуччи, что я купил ей на прошлой неделе.
Я потянулся и отпил вина. Взял Лидию за шею, она вся изогнулась. Ты похожа на свинку? – спросил я ее. – На маленькую розовую свинку?
Лидия терлась о мою руку, мурлыча от удовольствия, а Мануэль чуть не упал со стула. После, в туалете он сказал мне: – Назвать женщину свиньей – это малтрато. За это можно угодить в тюрьму!..
Оба бывших любовника, не достойные ее ничуть, никогда не жили с женщинами в одном доме – если не считать их деспотичных мам. Они состарились раньше, чем их мамы. Состарились раньше, чем повзрослели, превратившись в негоднейший материал.
Едва ли им случится найти себе пару, – думал я без злорадства, лишь с некоторой брезгливостью. – Наверное, Лидия была единственным ярким пятном в их жизни. Случайное, недолгое везение – и больше ничего не светит. Женщины, привлекательные хоть чем-то, обходят их по другой стороне улицы. Прекрасные незнакомки смотрят мимо и сквозь – ибо чувствуют: вибрации и токи лишь отпугивают, пропадают зря.
Я спросил потом Лидию, как она могла иметь с ними секс? Кончать с ними, шептать им что-то? Та лишь пожала плечами – мало ли, мол, с кем порой случается переспать.
Я сказал ей: – Вот этого стоят рассыпанные шарики жемчужной пудры!
В этом все твои истории, – укорил я ее, и она испугалась: – Ты мною разочарован?
Ну да, – ухмыльнулся я, – и да, и нет.
Потом успокоил ее: – Все в прошлом.
Ты стала другой, – признал я, и Лидия потянулась ко мне губами. От нее пахло хамоном самой высшей марки.
Я подумал еще про Рафу и Ману – лучше бы им, мол, поселиться вместе. Вместе вести хозяйство, стареть, доживать – в тесной мансарде недалеко от госпиталя. Все равно, засевший в них страх отвадит более живую судьбу. Или же, они могут сдаться на сомнительную милость «худших из самок» – неаппетитных, крикливых, злобных, рыскающих в поисках покорной жертвы. Что ж, эти двое как раз и есть те самые жертвы – вместе с легионом их двойников. Их облапошили, загнали в угол – худшие из самок, с которыми не поспоришь. Поди возрази, попробуй стать на пути – тут же общество обрушится на тебя всей мощью. Европа – стареющая самка, все еще полная куража – объявит тебя врагом, придушит, заставит сдаться. Заставит склонить голову, признать свою слабость. Ибо ты – с презрением сообщат тебе – мужчина!
Что говорят при этом призраки любви, ее тусклые тени? Что они шепчут себе под нос? Наверное, молчат – в этой стране им неуютно. Они, подозреваю, почти тут и не живут – кроме тех мутантов, что взращены в пробирке. Кроме тех, что выкормлены искусственным молоком в пансионе – вроде брайтоновского, но другом. Тех, что рождены извращенным сознанием – вроде моего, но другим. Наши вещи все же полны жизни. Ну а эти – грош им цена. Они выпущены на свет на тонких подгибающихся ножках. Неужели у них есть сила?..
Я писал об этом Семманту – с горечью, которой сам стыдился. В тех моих строках хватало вопросительных знаков. Признаться, у робота они не вызвали отклика. Он, может, вообще не понял, о чем я.
Зато мироздание, как выяснилось после, уловило намек с полуслова. И, выбрав момент, ответило тем же, швырнуло его мне в лицо – как испанским донам их былую спесь.
Но это было потом, пока же я не ждал подвоха и смотрел свысока. У меня были причины смотреть свысока. И я не думал о том, каково – свысока – падать.
Глава 21
На финансовых рынках продолжался спад, но мы по-прежнему не теряли денег. Тоска и уныние, царившие на биржах, не отражались ни на мне, ни на моем банковском счете. Нужно признать, в том не было моей заслуги. Это все Семмант – он держался молодцом. Уверенно и бесстрашно он скользил меж пропастей – по лезвию бритвы, не теряя фокус, глядя только вперед.
Что ж до меня, мой интерес к биржевым играм иссяк полностью и навсегда. Все было слишком примитивно-убого. Слишком понятно и, вместе с тем, абсурдно. Ни на что нельзя было опереться, всюду подстерегали ловушки, от которых не уберечься. Бросаясь в рынок, ты становился заложником энтропии. Пленником беспорядка, не имеющего предела. Потому что: жадность и страх и впрямь могут быть беспредельны. Могут быть вечны и не иметь конца.