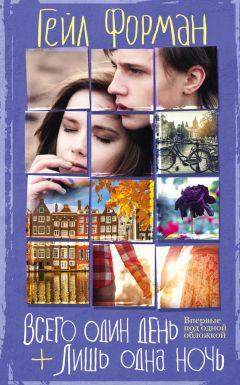Владимир Краковский - ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
Но на выгодное предложение никто не согласился, каждый желал быть первым, ссора достигла такого накала, что, разувшись, они повыхватывали из-за поясов лучевые дезинтеграторные пистолеты и палили друг в друга до тех пор, пока все не упали замертво.
А пятый остался. Пятым был журналист, газетный писака, которого взяли в экспедицию для того, чтоб он потом описал полет в Самый Укромный Уголок Вселенной и приключения на Прекрасной Планете в какой-нибудь Желтой Газете. Он добросовестно трудился всю дорогу, занося в блокнот подряд – и впечатления от шикарного вида из иллюминаторов, и разговоры членов экипажа; он жил только интересами будущих читателей и готовился сообщить им как можно более полную информацию об историческом полете. Он и ссору коллег записывал, сидя в отдалении, а когда поставил последнюю точку, то вокруг лежали уже одни только босые трупы…
Теперь он плакал, привалившись к Голубой Скале, – единственный человек на Прекрасной Планете! – и его горькой безысходной тоске не было конца.
«Зачем я жив? – думал он, слезы струились по его лицу. – О, проклятая профессия, вечное одиночество! Всегда присутствовать, но никогда не участвовать, быть свидетелем, но не вершителем, оценщиком, но не ценностью, певцом, но не воспетым. Становиться на чью-то сторону, но всегда оставаться посторонним».
Слезы иссякали. «Господи, они даже не удосужились выстрелить в меня!»
74
На следующее утро Верещагин легко открыл глаза. Он был пуст, как только что изготовленный сосуд.
Он отправился в институт, но не в лабораторию, а к директору, и протянул ему заявление с просьбой об отпуске. «Узнаю свои молодые годы», – сказал директор, его взгляд, направленный в потухшие верещагинские глаза, пыл проницательно понимающ. «Предоставить!» – написал он на заявлении.
«Молодые годы? – переспросил Верещагин. – Какие? Мне уже скоро сорок».
«Срочно!» – приписал директор к резолюции и отложил шариковую ручку в сторону. Да, сказал он, эта позиция ему тоже знакома. В четырнадцать лет, например, он считал, что все интересное заканчивается к восемнадцати. «А после – взрослая жизнь: однообразие, уныние, тоска».
И директор засмеялся своим особенным смехом, который означал не то, что ему весело, а что он хочет, чтоб весело стало собеседнику.
Когда же мне исполнилось восемнадцать, – продолжал он, – я стал считать, что интересная молодая жизнь продолжается до тридцати. А потом что? Старость! Однообразие! Уныние! Тоска!»
Он засмеялся снова. На этот раз, кажется, ему самому было немножко весело.
«Вы не ошибались, – сказал Верещагин. – После тридцати – уныние и тоска». – «Узнаю свою молодость! – воскликнул директор. – Посмотрим, что вы скажете в шестьдесят».
И он дважды подчеркнул слово «срочно». А ниже красиво расписался.
В кругу приятелей он любил хвастаться своей подписью. Вот уже тридцать лет она не претерпевает никаких изменений, говорил он. И для подтверждения сказанного доставал из личных архивов какую-нибудь бумажку, подписанную им еще в те благословенные годы, когда он был начальником главка. Ни одна графологическая лаборатория не найдет различий, говорил он. Приятели рассматривали бумажку, подтверждали – да, мол, действительно совпадает с теперешней тютелька в тютельку, только перо другое.
«Так тогда же у меня была китайская авторучка! – восклицал директор. – А теперь – шариковая! Что будет дальше? Куда мы идем?!»
И он смеялся таким смехом, на который не откликнуться смехом же мог только матерый хам.
75
Верещагин отправляется на Балтийское побережье и проводит там двадцать восемь дней в полном одиночестве. Великая Немота сковывает его уста.
Лето было необыкновенным для Балтийского побережья. Старики говорили, что о таком зное не рассказывали даже их деды. Историки сообщали: подобное пекло упоминается в недавно найденной древней летописи, но когда и где она написана, еще не установлено.
Жара стояла такая, что спички, оставленные на солнцепеке, через шесть минут вспыхивали и сгорали в бесцветном пламени вместе с коробкой. Пепел от них лежал неделями, не возникало ни малейшего ветерка, чтоб его развеять.
Такое необыкновенное солнечное изуверство наблюдалось в то лето на Балтийском побережье. Курортники, приезжавшие без темных очков, через два-три дня обращались к врачам с жалобами на острую боль в глазах и ночные кошмары очень странного содержания.
Потому что после заката воздух побережья насыщался душными тропическими испарениями, и у людей, вдыхающих такой воздух, просыпалась память предков, живших еще в докембрийскую эпоху.
В первую же ночь Верещагину приснился игуанозавр, сидящий на корточках перед шариковой авторучкой. А вокруг спиралями летала красная пчела.
До горизонта простирались красные пески и ничего не росло. Голубая Скала возвышалась за игуанозавром.
Днем Верещагин бесцельно бродил по берегу и всматривался в раскаленное белесое марево, висящее над горячим морем.
А ночью смотрел придуманные сны и вздрагивал. Он слышал или читал, что в прибрежном мусоре счастливчикам удается находить кусочки янтаря, иногда с горошину, и пытался искать, но попадались только оранжевые крылышки божьих коровок. Крылышек валялось везде очень много, а целой божьей коровки он не увидел за весь месяц ни разу. Ни живой, ни мертвой. Ветер не шевелил крылышек.
Однажды он наткнулся на лежащий у самой воды велосипед и просидел возле него на корточках часа два, а может и три, ни о чем не думая.
Хозяин не появлялся.
Верещагин захотел поднять велосипед, но сверкающий металл был до того горяч, что руки отдернулись сами.
Верещагин стал носить из моря в ладонях теплую воду и поливать ею руль и раму – те места, к которым хотел прикоснуться.
После этого ему удалось поднять велосипед, и он решил прокатиться на нем по пляжу, хотя прежде никогда в жизни не садился за руль и был уверен, что сейчас, конечно, грохнется.
Ему даже захотелось грохнуться, чтоб внести какое-нибудь разнообразие в это оцепенение, которым сковал все вокруг и внутри зной. Он вскочил в седло, предвкушая падение и синяк, но велосипед под ним вдруг помчался с бешеной скоростью, Верещагин едва успевал крутить педали. Он мчался по влажной твердой полосе песка у самой воды и вдруг ощутил долгожданный ветер – тот ударил в лицо, засвистел в ушах, взлохматил волосы.
Верещагин зажмурился от внезапного счастья, еще сильней нажал на педали и породил на взморье бурю. Холодный ветер злобно взвыл и стал рвать рубашку в клочья.
Но тут последовал сильный толчок, велосипед под Верещагиным пропал, а в голове зазвенело.