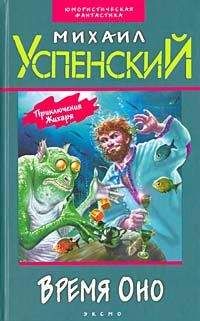Лев Успенский - Тайна всех тайн
— Где это вы пропадали весь вечер, Андрей Демьянович? — шутливо спросил Афонин.
Он не хотел выдавать свою осведомленность. Не всякому понравится, что его разыскивали методами уголовного розыска.
— Был у товарища, — коротко ответил Иванов.
Постель, постланная на диване, была раскрыта, и даже горела лампа под абажуром на стуле возле изголовья.
Иванов не считал нужным скрывать от гостя, что собирался спать.
Впрочем, он сразу же попросил у Афонина разрешения лечь.
— Что-то сердце пошаливает, — сказал он. — Волнуюсь, конечно, но и годы…
— Пожалуйста, не стесняйтесь, — попросил Афонин. — Я задержу вас не долго.
— Я и не стесняюсь, как видите.
Он медленно разделся и лег, закинув руки за голову. Всё это сопровождалось «старческим» кряхтением.
Афонин знал, что Иванову около пятидесяти. Это еще не старость. Вчера днем он был бодр и держался совсем иначе.
Откуда же взялась вдруг эта «дряхлость»? Почему он заговорил о годах?
Мелькнула мысль, что бывший комиссар нарочно прикидывается стариком, чтобы подчеркнуть несвоевременность прихода капитана милиции, но Афонин отбросил эту мысль. Ничто не мешало Иванову просто отказаться от разговора, перенести его, например, на завтрашнее утро.
Кроме того, Афонин умел разбираться в людях, и у него сложилось твердое впечатление, что Иванов не такой человек, чтобы притворяться. Видимо, что-то его сильно расстроило или взволновало. Он и сам сказал, что волнуется. Но из-за чего? Получать орден Иванову не впервой. Значит, есть другая причина, и скорее всего она связана с посещением Нестерова.
Спросить неудобно, а знать было бы весьма полезно.
Но пока капитан раздумывал, Иванов сам заговорил как раз о том, о чем думал Афонин.
— Был у товарища, — сказал он, повторяя свою же, недавно сказанную фразу. — Впервые увидел его сегодня. И еще двое там были, тоже не встречался прежде. Нестеров его фамилия. Может, помните, в том же указе, что и ваш Михайлов. Говорили и о нем. Между прочим, я спрашивал их мнение. Они знают о самоубийстве, но никто не может понять, что его заставило. («Так! — подумал Афонин. — Не сумели промолчать, а Лозовой, наоборот, не сказал того, что должен был сказать. Жаль!») О многом мы говорили. И вот, представьте себе, разговор с почти чужими людьми… Почти, — пояснил он, — потому, что все мы — партизаны — одна семья… Расстроил меня Нестеров. Возбудил, невольно конечно, тяжелые воспоминания. Словно постарел я сразу… А как было отказать? Верно?
Афонин кивнул головой. Он был уверен, что правильно понял то, что было не высказано в сбивчивой речи Иванова.
— Конечно!
— А что «конечно»? — насмешливо спросил тот.
— Конечно, не могли отказать, — храбро ответил Афонин.
— В чем отказать?
«Черт бы тебя взял!» — подумал капитан.
— Не могли отказаться рассказать о тяжелом прошлом.
На секунду в глазах Иванова мелькнуло удивление. Потом он рассмеялся.
— Я и забыл, что вы следователь, — сказал он.
У Афонина внезапно возникла новая идея. Знаменитая интуиция вновь властно заговорила в нем. Он не колебался. В случае ошибки он сумеет вывернуться, придумать правдоподобное объяснение. Риска почти не было. Иванов же не знает, зачем приехал к нему Афонин. А перевести разговор в нужное русло можно в любой момент.
— Как раз о вашем прошлом, — сказал он, — я и хотел поговорить с вами. Как раз о том случае, о котором вы рассказывали у Нестерова. — Афонина, как это часто с ним случалось, «понесло вдохновение». — Второй раз рассказывать легче. Расскажите и мне.
— Вы разве знаете об этом случае?
— К сожалению, далеко не всё. А нам очень важно знать подробности.
Иванов резко выпрямился.
— Это может означать одно, — взволнованно сказал он. — Мерзавца поймали! Да? А я думал, вы приехали из-за Михайлова.
— А что же говорить о Михайлове? — Афонина продолжало «нести». К тому же он действительно приехал по из-за Михайлова, а из-за Миронова. — Вы же сказали, что не встречались с ним. У нас много других дел.
— Но мой случай относится скорее не к вам, а к Госбезопасности.
На миг Афонину стало не по себе. Еще немного — и проницательный комиссар разоблачит его.
— «Мерзавца», как вы выразились, нашли мы…
— Понимаю! Впрочем, его вполне можно считать не политическим, а уголовным преступником.
— Тем более.
— Вы меня очень обрадовали, Олег Григорьевич! Я благодарен вам за ваш приезд. Много предателей повидал я на войне, многим воздал по заслугам лично сам. А про этого никогда не мог забыть. Готов рассказать всё.
— Я вас слушаю!
Афонин облегченно вздохнул. Пронесло!
Иванов закрыл глаза.
— Вы правильно заметили, — сказал он, — второй раз рассказывать гораздо легче. И вы услышите более подробный рассказ, чем у Нестерова. Слушайте!
Он говорил медленно, тихим голосом, иногда таким тихим, что Афонину приходилось напрягать слух, чтобы не пропустить ни одного слова. И чем дальше шел рассказ, тем больше капитан убеждался в его огромной важности, тем больше поражался верности своей интуиции, заставившей его выслушать Иванова прежде, чем изложить цель своего приезда. Задолго до конца он понял, что рассказ Иванова — именно то, что нужно было узнать полковнику Круглову и самому Афонину, чтобы раскрыть тайну Михайлова.
Капитан понимал, что случай, которым он воспользовался интуитивно, всё равно выплыл бы сразу, как только он назвал бы фамилию «Миронов». Но это не меняло сущности случившегося.
— Это произошло в середине сорок третьего года, — говорил Иванов. — Точнее, в начале июня. В одном из боев я был ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. Надо вам сказать, что у нас в отряде весь командный состав носил военную форму, но без знаков различия. Это потому, что три четверти командиров не имели воинских званий, а остальные решили не носить «шпал» и «кубиков», чтобы не отличаться от других своих товарищей. Мы любили и уважали друг друга. На мне была гимнастерка со звездами на рукавах, как и у всех наших политработников. Партийного билета, правда, не было. Мы отдали их секретарю партийного бюро, который сам не участвовал в этом бою из-за ранения. Мы всегда так делали, чтобы партбилет не попал в руки фашистов. Но и звезд на рукавах было вполне достаточно. А комиссарам, как правило, фашисты не давали пощады, уничтожая на месте. Я очнулся от беспамятства в подвале гестапо. С удивлением обнаружил, что рана тщательно перевязана. Сразу понял, что это сделано не из милосердия, — я был им нужен для допроса. Сознание того, что меня ожидает — не скрою от вас, — отнюдь меня не обрадовало. Я знал, что гестаповцы ничего не добьются, но их методы были мне очень хорошо известны. Весь день меня не трогали, даже принесли еду и воду. Я понимал их цель: было очевидно, что, рассчитывая получить ценные сведения, мне дают возможность немного прийти в себя, окрепнуть. А к ночи за мной пришли. Не стану вам рассказывать о выпавших на мою долю пытках. Ни к чему это, да я и не смог бы рассказать. Вы, конечно, заметили седину, ее не было до того, как я попал в плен. В нашем роду седели поздно. Ничего не добившись — я был тогда здоровым мужчиной, — гестаповцы бросили меня в камеру смертников — такой же подвал, в каком я находился до допроса. Именно бросили, да так, что меня с трудом привели в чувство другие осужденные. Там я провел последнюю, как я думал, ночь. Допрос продолжался почти сутки. До сих нор не могу понять, как я умудрился остаться живым. Видно, не судьба была умереть в тот день. Под утро нас вывели, посадили в машину и отвезли на место расстрела. Почему расстрел, а не виселица? Как это ни кажется странным, но именно этот вопрос не выходил у меня из головы всю дорогу к месту казни. А ответить можно было совсем просто — не захотели возиться! Но я тогда не мог додуматься до столь простой вещи. Был очень слаб и временами впадал в беспамятство. Помню, что лежал на полу кабины и голова моя покоилась на коленях какой-то женщины, которая всё время что-то говорила, видимо мне. Но я не понимал ни одного слова. Из машины меня вынесли товарищи. И тут вдруг вернулись силы. Я пошел сам. Нас выстроили на краю рва. Голова у меня удивительно прояснилась, и я стал хорошо сознавать окружающее. И обратил внимание, что вокруг не видно ни одного немецкого солдата. Только офицеры и какой-то человек в полувоенной, полугражданской одежде. Гимнастерка на нем наша, не немецкая. В руках у него был немецкий автомат. Я услышал, как кто-то возле меня сказал: «Какая нам оказана честь, товарищи!» И засмеялся. Да, точно! Есть люди, способные смеяться в такой момент. Я понял, что под честью этот человек подразумевал то, что нас расстреляют офицеры, а не солдаты. Но я не видел у них автоматов, Только у того, в гимнастерке. «Видимо, это и есть палач», — сказал тот же голос. «Он русский», — сказал другой. Я невольно вгляделся в палача и узнал его. Ошибки быть не могло, я видел хорошо. Два года этот человек, лейтенант Красной Армии, воевал в нашем отряде, куда пришел из окружения. По его словам, могу я добавить теперь. С месяц назад он пропал без вести. Сейчас он стоял среди гестаповцев и собирался расстреливать нас. И до самого конца, до того, как раздалась очередь из его автомата, я думал о том, что у меня нет ни времени, ни возможности предупредить своих, и о том, что изменник останется безнаказанным. Но случилось иначе. Я рассказываю о нем нам и повторю свой рассказ на заседании военного трибунала, если меня вызовут как свидетеля обвинения, на что я очень надеюсь. Как вспомню его глаза, горящие неистовой ненавистью, искаженное лицо и трясущийся в руках автомат… Всё это я запомнил навсегда… вот стоит только закрыть глаза… и вижу. С наслаждением сам лично привел бы в исполнение приговор трибунала. Несмотря на то, что этот мерзавец, в сущности, спас мне жизнь.