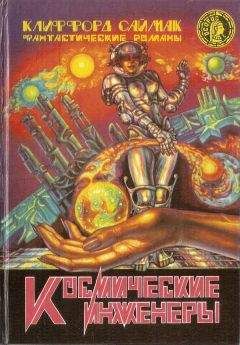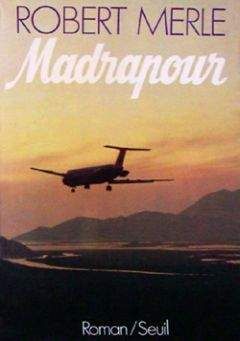Урсула Ле Гуин - Инженеры Кольца
А был я в грузовике, очень похожем на тот грузовик, в котором я тогда ехал через Каргав, в долину Pep, только теперь не в шоферской кабине, а в кузове. Вместе со мной в нем находилось от двадцати до тридцати человек, трудно точно определить, сколько именно, потому что окон там не было и свет просачивался через щель в задних дверях, затянутых четырьмя слоями стальной сетки. К тому моменту, когда я пришел в себя, мы, по-видимому, уже какое-то время ехали, потому что у каждого уже было свое более или менее определенное место, а отвратительная вонь смешавшихся запахов кала, блевотины и пота достигла неизменяющегося постоянного уровня. Здесь никто никого не знал. Никто не знал, куда нас везут. Никто не разговаривал. Вот уже второй раз я оказался запертым в темноте с ни на что не жалующимися и ни на что не надеющимися жителями Оргорейна. Теперь я наконец понял тот знак, то предупреждение, которое я получил в первую ночь, проведенную в этой стране. Я оставил без внимания, проигнорировал тот темный подвал и искал дух Оргорейна над землей, в свете дня. И нет ничего странного в том, что все казалось мне нереальным.
У меня было ощущение, что наш грузовик движется на восток, и мне не удавалось от него отделаться даже тогда, когда стало совершенно ясно, что мы едем на запад, вглубь территории Оргорейна. Наше подсознание, помогающее ориентироваться в пространстве, реагируя на магнитные поля, совершенно не справляется с этой задачей на чужих планетах. Если же интеллект не может или не хочет корректировать эти ошибки и погрешности, следствием их является глубокая дезориентация и ощущение, что буквально все рассыпается.
Ночью умер один из находящихся в грузовике людей. Очевидно, его били палкой или пинали ногой в живот, потому что он умер от кровотечения изо рта и из заднего прохода. Никто ничем ему не помог, да и вряд ли можно было помочь ему чем-либо. Втиснутый между нами пластиковый контейнер с водой уже на протяжении многих часов был пуст. Умирающий лежал справа от меня. Я положил его голову к себе на колени, чтобы ему было легче дышать. Так он и умер. Мы все в этом грузовике были обнажены, но с этого времени на мне была его кровь — сухой, жесткий, бурый покров, одеяние, не согревающее меня, не дающее тепла.
Ночью стало невыносимо холодно, и нам пришлось сбиться в тесную кучу, сгрудиться, как стаду, чтобы согреться. Покойник, уже не будучи в состоянии поделиться с нами теплом своего тела, был вытолкнут и отъединен от группы. Все же остальные, тесно сгрудившись, всю ночь тряслись и дрожали в едином ритме. Внутри стальной коробки была абсолютная темнота. Мы, по-видимому, находились на какой-то сельской дороге, и не было слышно никаких других машин за нами. Даже прижавшись лицом к сетке, не удавалось разглядеть хоть что-нибудь — снаружи были только темнота и снег. Снег падающий, снег свежевыпавший, снег старый, снег, на который пролился дождь, смерзшийся снег… В орготском и кархидском языках каждая из этих разновидностей снега имеет свое название. В кархидском (который я знаю лучше, чем орготский), по моим подсчетам, существует шестьдесят два слова для обозначения разновидности снега падающего и отдельный набор слов — для характеристики разновидностей льда. Существует более двадцати слов, дающих одновременно определение для сочетания нескольких факторов — температуры, силы ветра и вида осадков. Этой ночью я сидел и пытался мысленно составить список этих слов-определений. Как только я вспоминал новое определение, я повторял весь перечень, помещая новое слово в перечень согласно алфавиту.
На рассвете грузовик остановился. Люди стали через щель в дверях кричать, что у нас появился покойник и что его надо от нас забрать. Каждый раз начинал кричать кто-нибудь другой. Мы все вместе колотили кулаками в стены и двери кузова, производя такой адский шум в стальной коробке, что сами с трудом его выносили. Никто не приходил. Грузовик простоял без движения несколько часов. Наконец снаружи раздались какие-то голоса, грузовик закачался, колеса забуксовали на льду, и мы двинулись дальше. Сквозь щель в дверях можно было заметить, что снаружи — позднее солнечное утро, скоро полдень и едем мы по дороге, вьющейся между лесистыми холмами.
Так мы ехали еще трое суток, всего четверо суток, если считать от моего пробуждения. Наш грузовик не останавливался на контрольных пунктах и, по-моему, ни разу не проезжал через хоть чем-то примечательную местность. Путешествие наше было неритмичным, не шло по какому-то точному расписанию. Были остановки для смены водителей и подзарядки аккумуляторов. Были какие-то другие, более длительные остановки, причины которых, находясь внутри грузовика, определить было невозможно. На протяжении двух дней мы стояли от полудня до сумерек, как будто все, кто не был заперт в кузове, внезапно оставили наш грузовик, а потом мы снова отправились в путь, уже ночью. Один раз в день, около полудня, через окошечко в дверях нам выдавали большую посудину с водой.
Если считать и покойника, нас было двадцать шесть человек, как раз дважды по тринадцать. Гетенцы часто считают по тринадцать, по двадцать шесть и пятьдесят два, несомненно, это связано с двадцатишестидневным лунным циклом, который соответствует их неизменяющемуся месяцу и равен длительности их полового цикла. Труп был отодвинут к стальным дверям, которые образовывали заднюю стенку нашей коробки, где мы были заперты. Там было холоднее всего. Остальные узники сидели, лежали или сидели на корточках, каждый на своем соответственном месте, крохотной собственной территории, в своем домене до наступления ночи, когда холод становился настолько нестерпимым, что все постепенно сбивались в единое целое, занимающее уже одно общее место, где было тепло внутри и холодно снаружи.
Но была и доброта. Я и еще несколько человек, таких, как старик с раздирающим легкие кашлем, были сочтены наименее приспособленными к холоду и каждую ночь оказывались в середине группы, этого состоящего из двадцати пяти частей целого, где было теплее всего. Мы даже не боролись за это теплое место, мы просто оказывались в нем каждую ночь. Страшная это вещь — доброта, которую люди не в силах окончательно утратить, страшная, потому что, когда мы, нагие, оказываемся во тьме и холоде, это все, что нам остается. Мы, такие богатые и всесильные, в конце концов остаемся при такой мелкой монете и не в состоянии дать что-нибудь.
Независимо от того, что днем нам было тесно, а ночью мы сами искали еще большей тесноты, чтобы согреться, все мы, люди их грузовика, были крайне далеки друг от друга. Одни были одурманены наркотиками, другие, возможно, были недоразвиты, и все были унижены и запуганы. И что странно, ни один из этих двадцати пяти не обратился ко всем остальным для того, чтобы обругать их. Доброта, да, и терпение, — но в молчании, всегда в молчании. Стиснутые в вонючей тьме нашей общей обреченности, мы постоянно валились друг на друга бессильными телами, дышали друг другу в лицо, объединяли тепло наших тел в один очаг, но все равно оставались чужими друг другу. Я даже не узнал имени ни одного из этих людей.