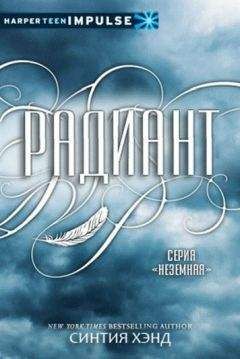Аркадий Стругацкий - Пикник на обочине
Но в то же время что-то в нем было, и чем дольше Рэдрик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно, что к нему хочется подойти, его хочется потрогать, и откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, по размыслить, повспоминать, а может быть, просто подремать, отдыхая…
Арчибальд вскочил, раздернул все «молнии» на своей куртке, сорвал ее с себя и с размаху швырнул себе под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, вприпрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Рэдрика, он забыл о Рэдрике, он забыл обо всем, он шел выполнять свои желания, маленькие сокровенные желания краснеющего колледжера, мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных, сопляка, который никогда в жизни не видел ни одной голой бабы, кроме как на картинках, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло спиртным, из которого растили известного адвоката, а в перспективе — министра, а в самой далекой перспективе — сами понимаете, президента… Рэдрик, прищурив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдет, и он знал, что не будет смотреть на это, но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не чувствуя, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочался вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой.
А мальчишка все спускался, приплясывая, по крутому спуску, отбивая немыслимую чечетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко, и очень весело, и очень торжественно, как песню или как заклинание, и Рэдрик подумал, что впервые за все время существования карьера по этой дороге спускались так — словно на праздник. И сначала он не слушал, что там кричит эта говорящая отмычка, а потом как будто что-то включилось в нем, и он услышал:
— Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угодно счастья!.. Все собирайтесь сюда!.. Хватит всем!.. Никто не уйдет обиженный!.. Даром! Счастье! Даром!
А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему кляп в рот. И Рэдрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно, с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Рэдрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. И ни одной мысли не было у него в голове, и он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге — без обычной радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил колпачок и стал пить маленькими скупыми глотками, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляжке было не спиртное, а холодная вода.
Прошло некоторое время, и в голове стали появляться более или менее связные мысли.
Ну вот и все. Дорога открыта. Уже сейчас можно идти, но лучше, конечно, подождать еще немножко. «Мясорубки» бывают с фокусами. Все равно подумать надо. Дело непривычное — думать, вот в чем беда. Думать — это значит извернуться, обвести вокруг пальца, сфинтить, сблефовать, но ведь здесь это все не годится.
Ну ладно, Мартышка, отец… Расплатиться за все, душу из гадов вынуть, пусть дерьма пожрут, как я… Не то, не то это, Рыжий… То есть то, конечно, но что все это значит? Это же ругань, а не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия и, сразу перешагнув через множество разных рассуждении, которые еще предстояли, свирепо приказал себе: ты вот что, рыжая сволочь, ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела, сдохнешь здесь рядом с этим шариком, сжаришься, сгниешь, падаль, но не уйдешь…
Господи, да где же слова-то, мысли мои где? Он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу. Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было! Подожди, Кирилл ведь что-то говорил такое… Кирилл! Он лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые и полузнакомые, но все это было не то, потому что не слова остались от Кирилла, остались какие-то смутные картины, очень добрые и совершенно неправдоподобные…
Подлость, подлость… И здесь они меня обвели, без языка оста вили, гады… Шпана… Как был шпаной, так шпаной и состарился… Вот этого не должно быть, ты слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено! Человек рожден, чтобы мыслить (это Кирилл, наконец-то!..). Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю, и для чего человек рожден, не знаю. Родился — вот и рожден. Кормятся кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто — мы? Кто — они? Это ж яснее ясного. Мне хорошо — Барбриджу плохо, Барбриджу хорошо — Пуделю плохо, Хрипатому хорошо — всем плохо, и самому Хрипатому плохо, он только, дурак, воображает, что сумеет как-нибудь вовремя извернуться… Господи, это ж каша, каша! Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю, а он всю жизнь с Хрипатым воевал и от меня, обалдуя, только одного ведь и хотел — чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросать, когда семью кормить надо? Работать идти? А я не хочу на вас работать, тошнит меня от вашей работы, можете вы это понять? Я так полагаю: если человек работает, он всегда на кого-то работает, раб он — и больше ничего, а я всегда хотел сам, чтобы на всех поплевывать…
Он допил остатки коньяка и изо всех сил швырнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то — он сразу забыл о ней. Теперь он сидел, закрыв глаза рука ми, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть, но опять видел только рыла, рыла, рыла… зелененькие, бутылки, кучи тряпья, которые были когда-то людьми, столбики цифр… Он знал, что все это надо уничтожить, он хотел это уничтожить, но догадывался, что если все это будет уничтожено, то не останется ничего. Ровная голая земля. От бессилия и отчаяния ему снова захотелось прислониться спиной и откинуть голову. Он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер.
Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Весь он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же самое время морозный озноб пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь — я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой… всемогущий, всесильный, всепонимающий, то разберись! Загляни в мою душу, я знаю — там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни сам из меня, чего же я хочу, — ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов — «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ. ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!»