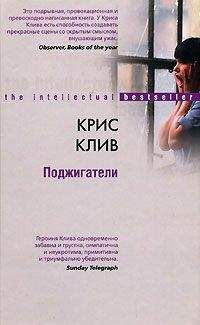Николай Гацунаев - Звездный скиталец (С иллюстрациями)
— Когда он только успел? — поразился Симмонс.
— В прошлом году. Я его с тех пор разыскиваю.
— Ай-яй-яй, барон! А я-то понять не мог, чем вы_заняты, почему все дела забросили. Сатисфакции, стало быть, жаждете. Уж не на дуэль ли вы этого сопляка хотите вызвать?
— Какая дуэль?! — застонал немец. — Морду набить хочу!
— А вот это уже ни в какие ворота, барон. Вы подумали, что про вас в деловых кругах говорить начнуг? Да про вас — полбеды, что про акционерное общество скажут? Хулиганы, мордобоем занимаются! Право, Дюмель, я был о вас лучшего мнения.
Не слезая с коляски, Джума с опаской прислушивался к разговору. Он не понимал ни слова, но по тому, как улыбалась пэри, чувствовал, что чаша весов склоняется в его сторону.
— Что же делать? — окончательно сник немец.
— Для таких случаев существует туземная администрация.
— Верно! — спохватился барон и даже попытался встать, но тут же со стоном плюхнулся обратно. — Завтра же миршаба[19] вызову.
— Ну уж нет! — решительно запротестовала Эльсинора. — С сегодняшнего дня этот мальчик служит у меня кучером. Джума!
— Ляббай![20] — встрепенулся новоиспеченный кучер.
— Помоги встать господину Дюммелю.
— Хоп болади![21]
Но барон отпихнул подбежавшего было Джуму, кое-как поднялся сам и, бормоча под нос, пошел к двери.
— Что вы там бубните, барон? — окликнул его Симмонс. Немец пропустил вопрос мимо ушей.
— Попомните мои слова, — игнорируя шефа, обратился он к Эльсиноре. — Филантропия до добра не доводит. Вам она тоже выйдет боком.
— Типун вам на язык, Дюммель! — рассмеялся Симмонс, но немец уже захлопнул за собой дверь. — Пророк нашелся!
Худакь-буа вонзил лопату в землю и, не спеша, развязал бельбог — широкий поясной платок, в который за неимением карманов были завернуты два куска черствой лепешки. Расстелил платок на поросшем травой берегу арыка и, приложив к бровям заскорузлую, в буграх мозолей ладонь, поглядел на дорогу. Пустынная, она просматривалась до самого кишлака Кыркъяб, утопавшего в лучах знойного полуденного солнца. В прозрачном золотистом мареве мерно колыхались плоские крыши глинобитных домиков, кроны вековых карагачей, ярко отсвечивал облицованный голубыми изразцами купол мечети.
— Не торопится Якыт, — вздохнул Худакь-буа. — Видать, что-то ее задержало.
Он опустился на траву, вытянув ревматически хрустнувшие ноги, обмакнул лепешку в мутную, кофейного цвета воду арыка и стал медленно жевать беззубыми челюстями. Укоренившаяся с годами привычка думать вслух оставляла его лишь когда рот был занят едой, или под языком покоилась очередная порция жгучего ядовитого насвая.[22]
«Совсем из ума выжила старуха, — размышлял он, вяло перекатывая во рту неподатливо жесткий кусок. — Вроде бы и лет немного, сорока еще нет, а уже память теряет. И то сказать: семерых детей похоронила. Один Джума и выжил. Любая женщина голову потеряет. Якыт еще молодчина — и по дому управляется, и коровенку содержит, и к сыну в Ургенч нет-нет да выберется. А от Кыркъяба до Ургенча три таша[23] идти, не меньше, Да еще не с пустыми руками: загара[24] напечет, гекберекь.[25] Балует парня. Не сладко Джуме живется. Жаббарбий — зверь лютый, даром, что из нашего кишлака родом. Еле упросил я его Джуму на службу принять. Взять-то взял, зато три шкуры дерет с бедняги. Едва на хлеб себе зарабатывает парень. Уйти бы, да некуда».
Лепешка наконец поддалась. Старик разжевал ее деснами, проглотил. Окунул в воду второй кусок. От него в разные стороны прыснули мелкие рыбешки.
— Кишь! — запоздало цыкнул на них Худакь-буа. Ишь, обрадовались, божьи созданья!
Поколебавшись, отломил кусочек хлеба и, размельчив, бросил в воду. Мутная поверхность забурлила крохотными водоворотами: сотни рыбешек тотчас вступили в сраженье за хлебные крошки. Старик некоторое время наблюдал за ними, потом вздохнул и покачал головой:
— Ну чем не люди? Так и норовят друг у друга кусок изо рта вырвать!
— С кем ты разговариваешь, ата?
Старик вздрогнул и с неожиданным проворством вскочил на ноги.
— Я пир им![26]
Перед ним, весело улыбаясь, стоял Джума.
— Как ты меня испугал, сынок. Думал, сердце лопнет от страха.
Только теперь Худакь-буа обратил внимание на то, как одет его сын. На Джуме красовалась нарядная чустская тюбетейка, под новеньким шелковым халатом была надета белоснежная батистовая рубашка, просторные темно-синие шаровары ниспадали на голенища начищенных до блеска хромовых сапог.
Мысли одна невероятнее другой метались в его голове, бросали то в жар, то в холод. Что могло произойти с сыном? Откуда у него эта дорогая одежда? Одни сапогв — целое состояние. Это у нищего-то фаэтошцика?..
— Сынок, — почему-то шепотом позвал Худакь-буа.
— Да, ата?
— Что с тобой стряслось?
— Со мной? — удивился Джума. — Ничего, а что?
— У тебя такая одежда… — Старый дехканин с трудом подбирал слова. — У Жаббарбия и то такой нет.
— А-а… — Джума рассеянно оглядел себя и пожал плечами. — Одежда как одежда.
— Подумай, что ты говоришь, сынок! — встревожился Худакь-буа. — Откуда она у тебя?
— Купил.
— Где? На какие деньги?
Некоторое время Джума недоуменно смотрел на отца и вдруг хлопнул себя по лбу и расхохотался.
— Как же я сразу не сообразил?.. Ты же ничего не знаешь!
— Откуда у тебя столько денег, Джума? — строго спросил старик.
— Успокойся, ата, — Джума взял отца за руку. — Я тебе все расскажу. А сейчас давай поедем домой.
— Поедем? — поразился Худакь-буа. — На чем?
— На нашем фаэтоне. Вон он стоит на дороге.
У придорожного тополя действительно виднелся щегольской фаэтон. Конь гнедой масти, то и дело встряхивая головой, щипал траву.
Не веря своим глазам, Худакь-буа подошел к экипажу, недоверчиво провел ладонью по конской гриве.
— Садись, ата! — Джума похлопал по сиденью.
— Скажи, Джума, — спросил старик, когда они уже подъезжали к кишлаку. — Ты нашел клад?
— Еще какой! — Джума улыбнулся и легонько подхлестнул иноходца. — Я судьбу свою встретил.
Час от часу не легче! Старик чуть не вывалился из фаэтона.
— Встретил судьбу?
— Да, ата.
— Как поживает твой грум?
— По-моему, нормально. А что?
Они стояли на вершине невысокой горы, глядя вниз на гигантскую излучину реки, стремительно катившей мутные воды на север, к Аральскому морю. Противоположный берег едва угадывался в голубоватой дымке расплывчатыми очертаниями Султанваисдага. Там, дальше на восток начиналась пустыня Кызылкум — раскаленные солнцем барханы, белесые пустоши солончаков, похожие на лунный пейзаж, мертвые горные кряжи. Оттуда, с востока, дул горячий ветер, и даже необъятная гладь Амударьи не смягчала его обжигающего дыхания.