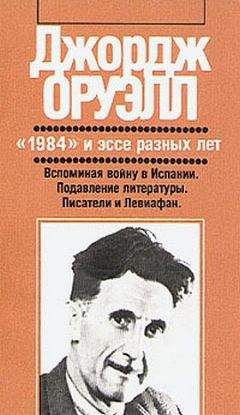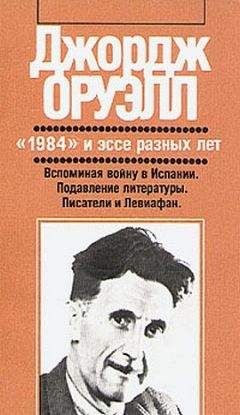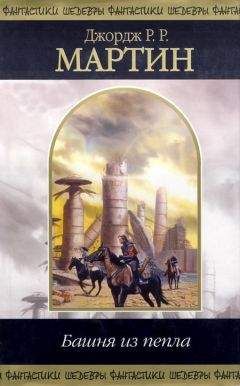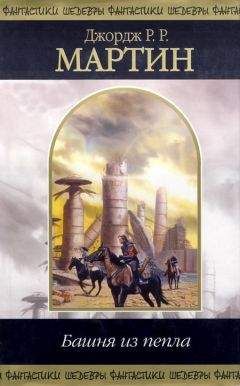Джордж Мартин - Туз в трудном положении
– Ровно год назад, в двадцатый день июля тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года, мы собирались в этом храме, чтобы похоронить Ксавье Десмонда. Я говорил слово прощания с ним, как сейчас буду прощаться с Кристалис. Я тронут, что мне предложили это сделать, но печальная истина заключается в том, что я устал хоронить друзей. Джокертаун стал беднее с их уходом, а моя жизнь – и ваша – от этой потери оскудела.
Тах помолчал, глядя на свои пальцы, впившиеся в кафедру. Он заставил себя немного расслабиться.
– В прощальном слове положено похвально отзываться о человеке, но сейчас мне очень непросто это сделать. Я называл себя другом Кристалис. Я часто с ней встречался. Мы даже облетели вместе мир. Но сейчас я понимаю, что на самом деле я ее не знал. Я знал, что она называла себя Кристалис и жила в Джокертауне, но я не знал, какое имя ей дали при рождении или где она родилась. Я знаю, что она играла роль англичанки, но так и не понял зачем. Я знаю, что ей нравилось пить «Амаретто», но так и не узнал, что вызывало у нее смех. Я знаю, что она любила тайны, любила контролировать ситуацию. Ей нравилось казаться холодной и неприступной, но я так и не узнал, чем это вызвано. По дороге из Атланты я задумался над этим и решил: раз я не могу похвально отзываться о ней самой, я могу хвалить ее дела. Год назад, когда на наших улицах бушевала война и наши дети оказались в опасности, Кристалис предложила свой дом – свой дворец – в качестве убежища и крепости. Это было опасно для нее – но опасность никогда не тревожила Кристалис. Она была джокером, который отказался быть джокером. Хрустальная леди никогда не носила маску. Вы принимали ее такой, какая она есть, – или шли к черту. Возможно, этим она научила кого-то из натуралов терпимости, а кого-то из джокеров – мужеству.
У него по лицу текли слезы. Чтобы проталкивать слова через вставший в горле ком, он говорил все громче и пронзительнее.
– На Такисе поклоняются предкам, и наши похороны важнее даже рождения. Мы верим, что наши мертвые остаются рядом, чтобы направлять своих глупых потомков, и эта вера может и пугать, и утешать, в зависимости от личности предка. Думаю, что присутствие Кристалис будет скорее пугающим, чем утешительным, потому что она многого от нас потребует. Ее убили. Это не должно остаться безнаказанным. Ненависть удушающей волной захлестывает нашу страну. Мы должны ей сопротивляться. Наши соседи бедствуют и голодают, живут в страхе и нищете. Мы должны кормить, укрывать, утешать и поддерживать их. Она будет ожидать от нас этого.
Тахион замолчал и обвел взглядом собравшихся. Его внимание привлекли свечи, горящие около кафедры. Подойдя к ним, он взял одну из крошечных свечек и вернулся на кафедру. Пламя гипнотически мерцало у него перед глазами.
– За один год Джокертаун потерял двух своих самых влиятельных лидеров. Мы испуганы, опечалены и растеряны от этой потери. Но я говорю: они здесь, они с нами. Давайте будем их достойны. Мы чтим их память. Никогда не забывайте.
Наклонившись, Тах извлек кинжал из потайных ножен в ботфорте. Поставив свечу на кафедру, он поднял указательный палец над пламенем. Быстрым движением он разрезал себе палец и затушил свечу каплей собственной крови.
– Прощай, Кристалис.
Неожиданная встреча с Фэтменом немного выбила Спектора из колеи, но после пары глотков виски он успокоился. Он сидел, сутулясь над краем кровати, и смотрел на заголовок.
«ХАРТМАНН СЕГОДНЯ ВЫСТУПАЕТ В ПАРКЕ».
Сенатор собрался публично призвать джокеров к тому, чтобы их демонстрации носили мирный характер. Это было рискованно – если учесть, сколько психов собралось в округе. Но никто не превзойдет в безумии политика, припертого к стенке. А Хартманн действительно оказался в этой ситуации. Спектор включил телевизор и настроился на канал, который передавал место и время всех мероприятий дня. Ему пришлось немного подождать – но наконец нужное сообщение появилось. Выступление в час дня, и ничего не говорится про отмену.
Спектор пожевал губу, рассеянно листая газету. Ему нужен какой-то ход. Ему нужно слиться с толпой – но при этом выделиться настолько, чтобы поймать взгляд Хартманна.
Его взгляд зацепился за небольшое объявление в углу. Там оказалась реклама «Костюмов Китона»: «МАСКИ, ГРИМ, КОСТЮМЫ, ПРАЗДНИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ и МНОГОЕ ДРУГОЕ» – обещалось в ней. Мужчина в костюме держал над головой этот список и сиял глупой преувеличенной улыбкой. Он был похож на Марселя Марсо. Спектор бросил газету, стер пятна краски с серых брюк и расхохотался.
Джек вошел через вращающуюся дверь в вестибюль «Мариотта», увидел толпы репортеров и делегатов Хартманна и попытался отбросить мысли о свиньях у корыта. Организаторы кампании прилагали все усилия к тому, чтобы за короткий обеденный перерыв накормить всех участников и вернуть всех в зал, и «Мариотт» старался это обеспечить с помощью огромной стойки, за которой тоннами выдавали салат с пастой и ростбиф с кровью. Джек увидел Хирама Уорчестера: тот пристроился на продавленном диване рядом с роялем, поставив на оба колена по тарелке с горами еды. Стеклянные кабинки лифтов были забиты корреспондентами и делегатами, зазвавшими проституток к себе в номера для небольшой дневной релаксации. На рояле снова играли «Пианиста». Джек уныло подумал, что точно знает, какая именно мелодия будет следующей.
К счастью, Джеку не нужно было пробиваться к стойкам и заглатывать ланч вместе с остальными, пока пианист будет отдавать должное аргентинскому танго: Джек обеспечил себе постоянный столик в «Белло Мондо», вручая метрдотелю ежедневно по новенькой стодолларовой купюре.
Сытный ланч и несколько порций виски будут весьма кстати. Утро выдалось просто отвратительное. Комментаторы Си-би-эс почти беспрерывно трещали во время речи Джимми Картера, выдвигавшего кандидатуру Хартманна, а остальные сети прерывались на рекламу. Председательствовавший Джим Райт, который, по прикидке Джека, хотел победы Хартманна, велел оркестру сыграть в конце речи марш «Звезды и полосы навсегда», спровоцировав присутствовавших на бурную демонстрацию в зале, которую телезрители так и не увидели. Джек готов был поклясться, что вопли Девона разносятся по всему «Мариотту».
Джек начал подозревать – из чистого суеверия, – что какой-то скрытый туз пытается достать Хартманна. Или, может, это гремлины из Кремля.
– Джек! Мистер Браун!
Добродушный человечек, похожий на Санта-Клауса, катился к нему. Поля старомодной соломенной шляпы бросали тени на длинные седые волосы и клочковатую бороду. Луи Мэнксмен, репортер «Лос-Анджелес таймс», с самого начала освещал кампанию Хартманна. Вид у журналиста был весьма решительный.