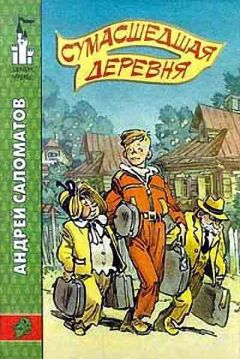Андрей Саломатов - Мыс дохлой собаки
Наконец, миновав котельную, нефтяное хранилище с провалившейся кровлей и сгоревший недавно дровяной склад, Нечайкин добрался до всем известного заводчанам закутка, где в летнее время распивали и частенько отдыхали после распития. Сразу же за ограждением из колючей проволоки, по которой проходил ток, в гранитном ложе плескались грязно-фиолетовые воды реки Москвы.
К большому неудовольствию Нечайкина на овощных ящиках уже сидели трое его знакомых, среди которых был и Кузьмин.
Кузьмин, до сих пор мешавший в ведре клей БФ с солью, поднял голову и, расплывшись в нехорошей улыбке, проговорил:
- Тю, Нечайкин. Сам пришел.
Нечайкин догадался, что его будут бить, пожалел о своей способности предугадывать события и со слабой надеждой спросил:
- Четвертым возьмете?
Не задай Нечайкин этот неосторожный вопрос, может все бы и обошлось. Ну постращал бы его Кузьмин, возможно влепил бы оплеуху или швырнул в него поленом, но Нечайкин перебощил. Здоровый детина в онучах и клеенчатом фартуке подтянул его за воротник поближе, крикнул: "Бля!" и несильно ткнул ему кулаком в зубы. От этого удара у Нечайкина в голове как-будто разорвалась бомба, и он как подкошенный упал рядом с ящиками.
Очнулся Нечайкин от того, что коллеги начали бить его ногами по ребрам и животу. Выплюнув с десяток железных зубов, он прикрыл лицо руками и громко хрюкнул, получив особенно болезненный пинок в солнечное сплетение.
- По роже не бейте! Рожу не трожьте! - охая при каждом ударе, умолял Нечайкин.
- Знаем. Не звери, - окучивая кирзовыми сапогами бока Нечайкина, ответил Кузьмин.
- Ничего-ничего, - тяжело дыша, проговорил здоровяк в онучах и клеенчатом фартуке. - Мордобой для мужика, все равно что менструация для бабы - дурная кровь сходит.
- Это точно, - поддержал его Кузьмин. - Еще в древности кровопусканием многие болезни лечили. Лихорадку, например. - Кузьмин размахнулся и со всей силой ударил Нечайкина ногой в живот. - Самсонова помнишь? - продолжал он. - Помнишь, месяц назад он пришел на работу с температурой тридцать восемь и семь? Мы с ребятами ему всю рожу разворотили, юшки стакана два из него вытекло. Так температура сразу упала до двадцати восьми градусов. Это же старое китайское средство от жара.
- Мужики, по печени-то не надо, - уворачиваясь от ударов, просил Нечайкин.
- Да у тебя она все равно гнилая, - ответил здоровяк в онучах. - Ей уже хуже не будет.
- Бляди вы, - кряхтя проговорил Нечайкин. - Твари, волки позорные, падлы ссученные... - Чтобы как-то отвлечься от болезненных ударов, Нечайкин начал выкрикивать все известные ему ругательства и проклятья. Брызжа кровавой слюной, он вертелся на земле как уж, сучил ногами и норовил попасть кому-нибудь из мучителей по ноге.
- Наглеет, - сказал здоровяк в онучах после того, как Нечайкин попал ему по колену.
- Он, падла, сегодня Прохорову лапал, - пожаловался Кузьмин, заехав Нечайкину сапогом по шее.
- А кто её не лапал? - резонно взвыл Нечайкин.
- Молчи, гнида, - возмутился Кузьмин.
- Что ж ты, сука, у товарища девушку отбиваешь? - спросил здоровяк.
- Может, в бочку его и в реку? - предложил до сих пор молчавший начальник смены. - Помните, как у Пушкина:
"И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в окиян
Так велел-де царь Салтан".
Бочку выбрали большую, крепкую, с четырьмя ржавыми обручами и выбитым сучком для поступления свежего воздуха. Нечайкина запихнули внутрь, забили отверстие крышкой и для верности укрепили крышку четырьмя гвоздями.
Нечайкин сидел внутри тихо, как мышь. Ему достаточно было уже того, что его перестали бить. Единственное, о чем сейчас жалел Нечайкин, так это о том, что с ним не было томика Пушкина, который он оставил в кармане пальто. Александр Сергеевич был его любимым писателем, и если бы когда-нибудь Нечайкин встретил его на улице, он сказал бы ему: "Александр, у меня никогда не было няни вроде твоей Арины Родионовны, и в детстве мне рассказывали отнюдь не сказки. Наверное поэтому я вырос таким крепким. Мне раз двадцать вышибали зубы, восемь раз ломали ребра, четыре раза закатывали в бочку, и все же я остался жив. Ты бы такого просто не выдержал и попросил бы Дантеса пристрелить тебя задолго до вашей роковой встречи".
В этот момент кто-то постучал в бочку, и через выбитый сучок послышался голос Кузьмина:
- Слышь, Нечайкин, не обижайся. Видать, судьба у тебя такая.
- А я и не обижаюсь, - пробубнил Нечайкин. - Все что ни делается, все к лучшему.
- Это начальник смены, гад, куражится, - прошептал Кузьмин. - Его клей, он и музыку заказывает.
- Да, я понимаю, - ответил Нечайкин. - У богатых свои причуды. Поплыву в дальние страны. Давно мечтал.
- Пока, друг, - торопливо попрощался Кузьмин. - А Прохорову я тебе прощаю. Плыви спокойно.
Снаружи послышались голоса. Нечайкина докатили до ограждения, и после того как палками приподняли нижний ряд колючей проволоки, бочку сильно пнули ногой, и она полетела с гранитного парапета в холодную маслянистую воду.
- Уй, бля..! - вскрикнул Нечайкин, ударившись лбом о доски. Удар был таким сильным, что Нечайкин потерял сознание.
Бочка словно детская колыбель, тихонько покачивалась на мелкой речной волне. Нечайкин давно уже потерял счет дням и не знал, сколько времени он находился в пути. Он давно уже съел свои старые ботинки из кожзаменителя, и чтобы как-то обмануть голод, сосал большую пластмассовую пуговицу. Иногда он вынимал её изо рта, подносил к отверстию и смотрел, уменьшилась она в размере или нет.
Нечайкин почти все время пребывал в полубессознательном состоянии. Так было легче переносить вынужденное плавание и, собственно, неизвестность. Иногда ему начинало казаться, что он не Нечайкин, а Александр Сергеевич Пушкин. Тогда, почесывая воображаемые бакенбарды, он принимался сочинять стихи. Затем Нечайкин вдруг понял, что он уже и не Пушкин вовсе, а философ Лейбниц. Сделав эито открытие, он начал спорить сам с собой и доказывать себе, что будучи субстанциональным элементом мира, то есть, монадой, он прекрасно взаимодействует физически с другими монадами, о чем говорят его многочисленные синяки и ноющие бока. И наоборот, развитие каждой такой монады, будь то Кузьмин или этот мудак в онучах, отнюдь не находится в предустановленном Богом соответствии с развитием всех других монад. Кузьмина, например, он вообще считал недоразвитым, а потому и не может между ними возникнуть даже самой плохонькой гармонии. От этих мыслей Нечайкину становилось грустно, и он начинал мечтать о "звездной душе" Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, который когда-то трудился под скромным псевдонимом Парацельс. Именно размышления о параллелизме микрокосмоса и макрокосмоса натолкнули Нечайкина на мысль, что человек может воздействовать на природу с помощью тайных магических средств.