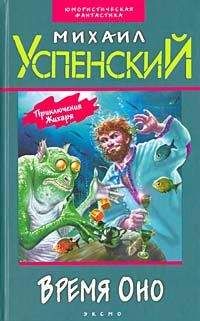Лев Успенский - Тайна всех тайн
Так вот и ширяли от одного к другому. Начнем, бывало, со Сванте Аррениуса, пройдем, сравнительно мирно, через анаэробных бацилл, коснемся опытов Шмидта по анабиозу, и вдруг — как обрушимся на господа бога и всех святых! А то — на господина Бердяева и Зина иду Гиппиус (почему это все Гиппиусы всегда бывают рыжие?)… Или сцепятся декаденты и читатели «Вестника Европы»… И всё вызывало шум, перепалки, хрипоту в горле, восторг и негодование…
Сегодня собирают деньги на стачечников в Казани, а завтра терзают друг друга по поводу андреевской «Бездны». Нынче Анна Павлова, покорив Европу, воротилась в родную Мариинку, а там всё внимание отдано капитану Льву Макаровичу Мациевичу, первой трагической жертве воздушной стихии. Это мы собирали деньги на венок летчику Мациевичу — венок с красными лентами. Это мы, в другой день, выпрягали лошадь у извозца и везли на себе в гостиницу Лидочку Липковскую, знаменитое колоратурное сопрано и прелестную женщину… Мы протестовали против Кассо, министра народного образования, сверхмракобеса… Мы декламировали крамольные стихи Саши Черного. Мы ломились на лекции Бальмонта, на концерты, Скрябина, на «Недели авиации»… До всего нам было дело, во всё студенчество совало нос. И как-то странно, что многие из нас — и мы с тобой, друг Сереженька! — при таком шумстве самого главного, того, к чему всё это шло, и не разглядели. Не заметили. Уж чего там говорить: да!..
Казалось бы — буйная деятельность. Но в то же время, что это был за медленный, почти неподвижный первобытный мир вокруг нас! «Как посмотреть, да посравнить век нынешний и век минувший…» Сам себе не веришь!
Только за три года до этого в Питере пошел трамвай. Буквально вчера появились первые «синематографы», они же «иллюзионы», они же и «биоскопы»: не сразу придумалось, как это чудо называть. Фонари на улицах были где газовые, а где и керосиновые, электричество горело на десятке улиц.
Читая Уэллса, все понимали: это — фантазия, всякие тепловые лучи да черные дымы. А реальный мир в чем? Вот он — в городках Окуровых, в их пыли, в одичавших вишневых садах с натеками клея на заскорузлых стволах. Реальный мир — никем не тревожимые версты то щей ржи, перемешанной с пышными васильками и куколем, прорезанной узкими межами. Вот это — реальность, это — навсегда. И так тяжко лежало на нас сознание незыблемости, неотвратимости, предвечности дворянских околышей на станционных платформах, жандармских аксельбантов рядом с вокзальными колоколами, жалобных книг и унтеров пришибеевых всюду, от погоста Дуняни до Зимнего дворца в Петербурге, что волей-неволей все мы — интеллигенты! — душами тянулись ко всему необычному, новому, неожиданному, дерзкому, откуда бы оно ни приходило к нам: с неба или из преисподней…
Я думаю, именно в связи с этим нашим свойством, в своем неоспоримом качестве странного человека, оригинала, таинственной личности, овладел всеобщим вниманием и студент-технолог Вячеслав Шишкин. Вскоре после той памятной первой встречи с нами на Фонтанке он неожиданно, без всякого уговора или приглашения, заявился на моем тихом пятом этаже.
Надо признать: он мог-таки произвести немалое впечатление. Он не укладывался ни в какие рамки, воспринимался как исключение и загадка: ни богу свечка, ни черту кочерга, капитан Копейкин какой-то…
Он носил цыганскую фамилию, потому что родился от матери-цыганки и никогда не был узаконен отцом. Отец был генерал в отставке, владел какими-то тысячами десятин в краю толстовского Мишуки Налымова, носил странную фамилию Болдырев-Шкафт и при огромном беспорядочном состоянии обладал огромным беспорядочным нравом. Сам Шишкин отзывался о нем неясно, больше вертел пальнем передо лбом: «Старик — ничего. Но этого бог ему не дал!»
Юный Шишкин стал Вячеславом по прихоти отца. А вот в Венцеслао — так он всюду подписывался — он превратился по особым причинам и много позже.
Однажды Сёлик Проектор — теперь респектабельный конголезец, а тогда скромнейший и прилежнейший студент Техноложки, — копаясь в Публичной библиотеке в книгах по истории химии, наткнулся на изданную года три назад в Мантуе на сладчайшем италийском языке тощенькую, но презанимательную брошюру: «Кмика, дльи, тмпи футри» — «Химия будущего» именовалась она. Под заголовком, на титульном листе, — это редкость на Западе — стояла дата: 1908 год, а наверху было скромно обозначено:
Венцеслао Шишкин
(баккалауро)
Сёля Проектор оторопел. Едва встретив в институте нашего бородача, он кинулся к нему:
— Скажите, коллега… Это случайно не вы? Шишкин не сморгнул глазом. Взяв на секунду брошюрку в руку, он равнодушно положил ее на стол.
— Почему — случайно? Я! Старье! Не интересно. Всё будет иначе, ответил он.
Естественно, на него насели:
— Слушайте, Шишкин, но почему же? Почему Мантуя? Почему итальянский язык? Расспросы ему не понравились.
— А не всё ли равно какой? — пожал он плечами. — Ну, Мантуя… Это мне Гаврила Благовещенский устроил…
Мы так бы и остались в неведении — кого он так именовал, если бы некоторое время спустя в институт не пришло на имя Венцеслао Шишкина письмо из Фиуме. На конверте был обратный адрес: «Рма, такая-то гостиница. Габриэль д’Аннунцио, король поэтов». Аннунцио по-итальянски и есть «благовещенье», а Габриэль д’Аннунцио был в те дни «величайшим», «несравненным», «божественным» итальянским декадентом. Это позднее он стал фашистом и другом Муссолини.
Мы так никогда не узнали, как и почему «баккалауро» свел знакомство со столь шумной и пресловутой личностью, о чем тот писал ему в письме, почему прислал с полдюжины своих фотографий с напыщенными и трудно переводимыми надписями. Но имя Венцеслао, так же как и звучное звание баккалауро, закрепилось за технологом Шишкиным навсегда.
Венцеслао был юношей среднего роста. Предки-цыгане наградили его тонкой, как у восточного танцора, поясницей, при сравнительно широких и мускулистых плечах. Руки и ступни ног у него были малы, точно у непальского раджи, но тонкими пальцами своими он, если находился меценат, склонный оплатить дорогостоящий опыт, без особого труда сгибал пополам серебряные гривенники.
К смуглому красногубому лицу его — интересно, что бы сказали о нем вы, коллега Берг? — по-своему шла большая, угольно-черная, без блеска, ассирийская борода. Зубы — реклама пасты «Одоль», на белках глаз и лунках ногтей чуть заметный синеватый оттенок… В те периоды, когда генерал Болдырев вспоминал о сыне, сын, одетый с нерусским небрежным щегольством, начинал походить на индийского принца, обучающегося в Кембридже: изучает «Хабеас корпус», но, едва кончив курс, вернется к своим женам, своим гуркасам и к священному крокодилу в пруду под священным деревом с белыми священными цветами.