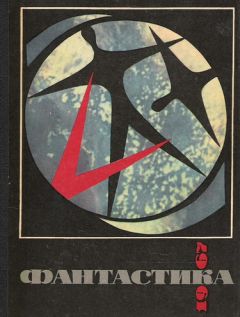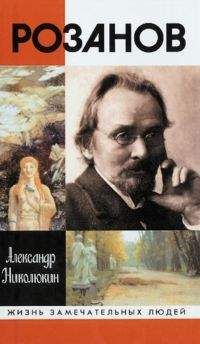Лилиана Розанова - Две истории из жизни изобретателя Евгения Баранцева
Принципиальная сторона проблемы была, собственно, уже решена. Конечно, Женька по Ксанкиным заданиям предсказывал ей кое-какие мелочишки, уточнял детали, но это была так, ерунда, решаемая чистой техникой и не требующая вдохновения.
Женька стал задумчив. То целыми вечерами напролет играл со своими пятиклашками в «крестики-нолики», то они прибегали к нему на переменке, и старший, ушастый ординарец докладывал:
— Женя, к слову «слон» Бескудник придумал 2193 рифмы!
— Но из них 1125 непонятных, — уточняла девочка Лека.
У них появились свои дела.
Но все-таки часто получалось так, что из школы мы уходили вместе: Баранцев, Ксана и я. Баранцев шел рядом с Ксаной, а я — что делать? — отставала на несколько шагов. Понимаете, земля оттаяла, между домами квартала 798 дробь восемь-бис грязь была по макушку, и от дома к дому и к рощице возле автобусной остановки, где уже проклевывались вербинки, скользкие, как новорожденные цыплята, ходили только по мосточкам-досточкам шириною ровно в два идущих рядом человека. Так что я шла следом за Баранцевым и Ксаной, а ординарцы — гуськом — за мной. На ходу ординарцы обсуждали проблемы лежащей на боку восьмерки и другое подобное, — видимо, в них вовсю начали прорезываться безусловные математические рефлексы.
Между тем время уже не шло, а летело, весна входила в силу, мимозой у нас не торговали, зато прямо за школой лезли под солнышком подснежники, лучезарные, как глаза Ксаны Таракановой.
Наступила пора экзаменов. Пора аттестатов.
Папа и мама Таракановы, увидев Ксанкин аттестат, пришли в отчаяние. Моя бабушка грустно утверждала, что, будь я посерьезнее, так могла бы стать почти отличницей. Что до Баранцева, то Вадиму Николаичу понадобилось полтора часа, чтобы уговорить комиссию поставить ему по устной литературе хотя бы тройку, условно.
Но все-таки, все-таки он наступил — вечер двадцатого июня, наш выпускной бал! Летели в потолок пробки от шампанского, дымились торты из мороженого, благоухала клубника, и каждая черешина отражала люстру лакированным бочком. И уже джаз нашего квартального ресторана «Лазер» настраивал свои тромбоны-саксофоны.
Но у меня все колотилось внутри, и через стол я видела, что и Женька Баранцев сам не свой — смотрит все время то на дверь, то на часы.
Ксаны не было.
— Ребята, — сказал Вадим Николаич (это был пятый или шестой тост, когда говорят уже не торжественно и слышат только те, кто сидит неподалеку). — Сейчас вы еще не понимаете, что это был за год, вы поймете это позже, а я понимаю уже сегодня. Для меня-то он был таким же удивительным, как для вас, и мне ужасно жаль уходить отсюда вместе с вами.
— Вы уходите из школы? Вадим Николаич! Правда? Неправда! Почему же?! — зашумели мы.
— Так получилось, — ответил наш Вадик и улыбнулся странной, затаенно-счастливой и грустной улыбкой.
Все бросились к нему с расспросами, но в это время открылась дверь и вошла Ксана.
Ее отовсюду было отлично ВИДНО. И я прекрасно увидела — сначала не лицо, потому что она смотрела в другую сторону, — но россыпь сверкающих волос и платье. И — платье…
Оно было белое. Вернее, не совсем белое. Точнее, почти белое. Понимаете, как если бы цвета спектра, составляющие белый, смешались не окончательно, а каждый немножко оставался бы сам собой: то синий, то оранжевый звучали под сурдинку в этом белом оркестре. И оно тихонько звенело, платье. Но совсем не так, как, напримёр, позванивает лист серебряной фольги, если по нему побарабанить пальцами. И уж совсем не походил этот удивительный звук на нахальный посвист плащей «болонья». Нет, нет, тут было иное. Я думаю, его и слышали-то не все.
Наверное, так звенели бы луговые колокольчики, если бы они звенели.
О фасоне я не знаю что и сказать. Позже я пробовала нарисовать его по памяти, но ничего из этого не вышло, нарисовалась совершенная ерунда. Я подозреваю, что постоянного фасона у него вообще не было. Трепетали, переливаясь друг в друга, текучие детали, полукрылья бились вокруг рук и за спиной, еле видимые полотна — или это только казалось? — струясь, сходились у щиколоток ног наподобие узбекских шаровар.
И туфли на Ксане были именно такие, какие требовались для такого платья, и прическа — такая; будьте уверены, она понимала в этом толк!
Даю вам честное слово, самые искушенные модельеры всесоюзного значения никогда не видели и не увидят ничего подобного.
И я стала проталкиваться к Ксане сквозь обступившую ее толпу, чтобы сказать ей это.
И тут Ксана обернулась.
И я увидела ее лицо.
В первый момент я не поверила себе, я подумала, что издали что-то путаю. Я шла к ней все медленнее и медленнее и не могла отвести взгляда.
Я увидела словно не Ксану, а ее сестру, точь-в-точь на нее похожую, но уродливую в той же степени, в какой Ксана была красавицей.
Она хохотала громким, отрывистым, довольным смехом. Ее глаза были по-прежнему синие, но всего-навсего синие, похожие на маленькие осколки фарфорового блюдца, и вообще главным в лице оказался большой полуоткрытый рот.
Это тихий, переливчатый отсвет платья так изменил ее! Потом-то я поняла, что в этом не было никакой фантастики: всем известно, как, например, меняются лица под мертвенным светом люминесцентных ламп или, наоборот, под прямо падающими солнечными лучами. Но тогда…
В Ксанином лице было нечто издревле жестокое; от тяжелого, оценивающего прищура ушедших глубоко под надбровные дуги глаз сами собой возникали такие ассоциации, додумывать которые до конца у меня не хватало духу.
Мне стало страшно.
Нужно было немедленно сказать ей, чтобы она сломя голову мчалась домой переодеваться. Но тут грянул джаз из ресторана «Лазер», и Володька Дубровский, пробившись к Ксане, повел ее на свободное от столов пространство.
Больше никто не танцевал: все смотрели на Ксану.
— Красота-а какая!.. — тоненько и восхищенно сказал кто-то за моей спиной, Я обернулась и увидела ординарцев. Наверное, Женька позвал их посмотреть результаты опыта.
— Красота? Где? — пожал плечами ушастый.
— Платье красивое, — поправилась девочка Лека, и они повернулись и пошли, разочарованные, из зала. Щелкали фотоаппараты, стрекотали кинокамеры. Девчонки с ума сходили: «Прелесть! Ах, прелесть! Очарование! Две тыщи! Девятьсот! Семьдесят! Пятый!!! Ах, чудо, прелестно!» — захлебывались они. Наш старый-престарый математик Пал Афанасьич вытирал слезы умиления, молоденькая физичка Людочка, потрясенная, прижимала руки к груди.
«Женька Баранцев машину изобрел, а машина — платье!» — каждому на ухо кричала тетя Гутя, но никто ее не слушал.