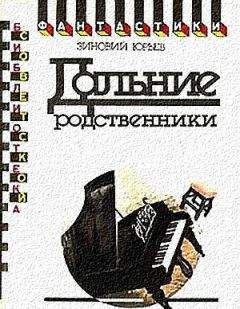Зиновий Юрьев - Дарю вам память
— Ну, Иван Андреевич, вы уж слишком…
— Нет, нет, не слишком, не утешайте меня! Знаете, что сделал этот мальчишка?
— Нет…
— Он принял на себя поле. Мы же твердо договорились все не делать этого.
— Но зачем?
— Он утверждает, что спас таким образом одного оххра от самоубийства. Но ведь это один! А скольких он не сможет спасти из-за того, что поле делает его слишком похожим на оххров, придавливает, лишает воли? Ему кажется, что он смел и благороден, что он утер нос старому ретрограду, а по сути дела, его мальчишество может нам стоить новых выключений… Э, да что там говорить… — Иван Андреевич махнул рукой. — В одном Пухначев, безусловно, прав: мы здесь — это продолжение наших земных, так сказать, оригиналов.
Александр Яковлевич поймал себя на том, что давно уже не слушает собеседника, а старается определить закономерность, с которой позвякивает стакан на столе. Трудно, трудно разобраться, все сложно так, запутано. И в том, что говорит редактор, есть правда; и Павел наверняка навьючил на себя бремя поля не для того, чтобы утереть нос ретрограду, как утверждает Иван Андреевич, и Татьяна старается изо всех сил и не виновата, что оххры не хотят жить. И, может быть, действительно хорошо, что он сам пока ничего не делал. Обождать, осмотреться, пока не созреет в голове четкий план, а не хвататься очертя голову за первую попавшуюся идею, не торопиться.
— Я предлагаю, Александр Яковлевич, чтобы мы вместе с вами поговорили с Осокиной. Я думаю, она, в конце концов, достаточно умная женщина, чтобы понять: мы ведь не пытаемся унизить ее, а лишь помочь. Это наш долг. Наш долг — помешать ей своей неразумной суетливостью ускорить гибель еще нескольких оххров.
Может быть, это действительно наш долг, думал Александр Яковлевич. А может быть, и не так все? Чепуха! Честнее нужно быть. Хотя бы с собой. И признать, что болит у него душа, или, если быть точным, как положено провизору, копия души. Потому что хочется ему, ох, как хочется, помочь жалким этим мудрецам, а как это сделать, не знает.
Так ли поступает Татьяна, сяк ли, но что-то она хоть делает. Посмотреть бы… Да и увидеть эту воительницу было Александру Яковлевичу приятно. И упрямый ее подбородок, гордую голову с забавным курносым носиком, сжатые кулаки. Он мысленно усмехнулся. А что, может быть… Чепуха, ответил он себе, но вторая его половина тут же проворно и лукаво пропела беззвучно: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь…» Господи, только этого не хватало… — Пойдемте, я с удовольствием составлю вам компанию.
Шли они не спеша, и Александр Яковлевич не уставал поражаться странному и безостановочному кружению двух голубых солнц в оранжевом небе и быстрому скольжению теней, прыгавших вслед за ним по сухой, каменистой почве.
Все-таки поразительно, как быстро ко всему привыкаешь. Только что, только что на Земле он прислушивался с постоянной тревогой к колотью в сердце и постоянно утешал себя, что колотье в левой части — это еще не страшно, куда хуже была бы боль загрудинная… И вот он идет по чужой планете, в жарком, разреженном воздухе, и его нисколько не беспокоит, что никакого сердца у него вообще нет, нет никакой крови, а есть нечто совершенно непонятное, полуживое-полумашинное, черпающее извне самую разную энергию и не боящееся никаких хворей.
Сама ходьба была здесь делом удивительным. Александр Яковлевич не делал никаких усилий, он как бы лишь управлял самодвижущимся своим телом, был как бы его седоком. А тело двигалось замечательно: плавно, сильно, без толчков, словно безостановочно переливалось, текло.
— Если не ошибаюсь, — сказал Иван Андреевич, — границы страны Татьянии начинаются вон за тем холмиком. Я его приметил по высокому ноздреватому камню… — Иван Андреевич вдруг засмеялся.
— Что вы? — спросил его Александр Яковлевич.
— Да вот, представляете, поймал себя на мысли, что волнуюсь. А вы?
— Я? Не знаю…
Александр Яковлевич опять покривил душой. Он знал. Он тоже волновался. Как-то встретит его воительница? Не их, а его, вот что волновало старого аптекаря, потому что совершенно против его воли какой-то дурацкий ухмыляющийся голос продолжал бубнить: «каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь… И ты поешь… И ты поешь…» Чтобы заглушить этот старый мотивчик в голове, Александр Яковлевич начал было привычно подбирать приличествующую случаю цитатку, но с удивлением отметил, что ничего подходящего на ум не приходит. Гм… странно, странно… «И каждый вечер сразу станет удивительно хорош…». О господи!
Они поравнялись с высоким камнем. Он действительно был какой-то ноздреватый, как губка, и поры его, в которые не проникало голубое сияние двух солнц, источали, казалось, черную прохладу.
И тут увидели они девчушку с забавно торчащими косичками. Где она была, откуда взялась, совершенно непонятно. Пограничник с косичками. «Пионерка помогла задержать двух нарушителей границы», — прошмыгнула в голове Александра Яковлевича совершенно никчемная фраза.
— Добрый день, — сказала девчушка. — К сожалению, дальше пропустить вас не могу.
— Как это — не можете? — изумился Иван Андреевич. Он горообразно возвышался над ней и оторопело смотрел сверху вниз не жесткие косички.
Что поделаешь, подумал Александр Яковлевич, директор школы… Не привык, чтобы ему что-то запрещала какая-нибудь пятиклассница.
— Так, не могу. Мы приняли решение временно никого к нам не пропускать.
— Кто это — мы?
— Оххры Татьяны Владимировны.
— Но мы все-таки пройдем.
— Нет. Как говорит Петя, «близок локоть, да не закусишь».
— Что-о? — подпрыгнул Иван Андреевич.
Он явно не рассчитал силу прыжка и подпрыгнул самое меньшее на метр, и Александр Яковлевич рассмеялся.
— Что? — недоуменно переспросил еще раз редактор газеты.
— «Близок локоть, да не закусишь», — гордо повторила девчушка и задорно тряхнула головой, отчего косички ее, словно на пружинах, качнулись и тут же приняли прежнее положение.
Вот оно, вот когда это случилось, печально подумал Иван Андреевич. Настигло все-таки его безумие. Все вытерпел, все перенес, не дрогнул: и своего двойника, и Оххр, и тело без сердца, кишок и гипертонии, и знакомство со странной скорбной расой, — все перенес. Но всему приходит конец. Прощай, Ваня. Что ж, никто не скажет: «Какой молоденький, мог и пожить». Пятьдесят девять, вся жизнь позади.
Но и в безумии, может быть, есть своя логика, кто знает.
— А как это можно закусить локтем? — спросил Иван Андреевич. — И кто такой Петя? И надо говорить: «близок локоть, да не укусишь».
— Нет, — упрямо сказала девчушка, — надо говорить именно так. Тем более, что локти никто не кусает. Я пробовала.