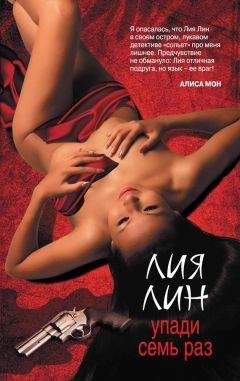Грегори Бенфорд - Панорама времен
— Совершенно верно.
— Я… Мне сказали, что у вас нет ключа к этому ящику… — Он явно надеялся, что у Петерсона все-таки есть ключ и это сможет впоследствии избавить его от длительных объяснений со своим руководством.
— Правильно, ключа у меня нет. Но разве у вас не записано, что абонентский ящик зарегистрирован на мое имя?
— Да, но я не понимаю…
— Проще сказать, речь идет о национальной безопасности.
— Все же без ключа владелец…
— Вы меня поняли? Вопрос национальной безопасности. Мы не можем терять время. — Петерсон одарил чиновника одной из лучших своих улыбок, предназначенных для таких случаев.
— Заместитель госсекретаря частично объяснил мне суть дела по телефону. Я переговорил со своим начальством, однако…
— Ну вот и хорошо. Я рад, что все завершилось так быстро. Всегда приятно, когда работа делается оперативно.
— Да, мы стараемся.
— Мне бы хотелось быстренько взглянуть на то, что в ящике, — проговорил Петерсон, и в его голосе зазвучал металл.
— Прошу вас, сюда…
После того как они прошли процедуру подписей и отметки времени, перед ними со звуковым сигналом открылась стальная дверь. Управляющий нервно порылся в связке ключей, затем нашел нужный ящик и выдвинул его. Однако, прежде чем окончательно сдаться, он еще некоторое время колебался.
— Благодарю вас, — вежливо прошептал Петерсон и немедленно отправился в соседнюю маленькую комнату, где мог рассмотреть содержимое ящика наедине.
Это была его идея. И она ему очень нравилась. Если то, что говорил Маркхем, — правда, значит, можно обратиться к кому-то в прошлое и изменить настоящее. Конечно, пока неясно, как такие действия отразятся на их жизни. Поскольку прошлое, которое они сейчас рассматривают, вполне может оказаться результатом действий Ренфрю, то как его отличить от того прошлого, которое не существовало, но могло бы существовать? Вообще, как сказал Маркхем, наш взгляд на время является ошибочным, поскольку если уж вы запустили пучок тахионов между двумя какими-то моментами, то они оказываются навсегда замкнутыми в неразрывный контур. Однако Петерсону достаточно знать, что между двумя моментами можно осуществить связь. В идеализированном эксперименте Маркхема этот вопрос сильно запутан, поэтому Петерсон предложил своеобразную проверку. Действительно, необходимо послать в прошлое пробную информацию о состоянии океана, но требовалось попросить кого-то ответить, что такая информация принимается там, достигает адресата. Если это подтвердится, то Петерсон убедится, что все не пустопорожняя болтовня. Поэтому за два дня до отъезда из Лондона он приехал к Ренфрю и передал ему для отправки в прошлое конкретное сообщение. У Маркхема имелся список групп экспериментаторов, которые гипотетически могли бы принять послание на своих установках ядерного магнитного резонанса. Сообщение направили всем этим группам — в Москву, Нью-Йорк, Ла-Ойю — и попросили установить абонентский ящик с четкой надписью и ответом для Петерсона внутри. Петерсон не мог отправиться в Москву, не объясняя сэру Мартину, для чего он это делает. Нью-Йорк в данный момент представлял угрозу из-за засилья террористов. Оставалась Ла-Ойя.
Петерсон почувствовал, как участился его пульс, когда он услышал щелчок и крышка абонентского ящика открылась. Он увидел внутри пожелтевший лист бумаги, сложенный вчетверо. Петерсон вынул листок, разгладил его и прочитал: ПОСЛАНИЕ ПОЛУЧЕНО ЛА-ОЙЯ. И все. Его сразу охватили два противоречивых чувства: с одной стороны — бурная радость, а с другой — досада, что он не попросил о большем. Он с огорчением понял, что мечтал не о такой реакции этого типа, получившего сообщение. Петерсон почему-то решил, что он выполнит указание, а затем напишет, как получил послание и как воспринял его, или по крайней мере сообщит, прохвост эдакий, что-нибудь о себе.
Петерсона переполняла гордость от того, что он провел этот эксперимент самостоятельно. Неожиданно он задумался о том, что это значит — быть ученым, совершать открытия и видеть, как перед тобой распахивается целый мир, пусть даже на мгновение.
Тут в дверь осторожно постучал управляющий банком. Настроение Петерсона изменилось, он вздохнул и положил пожелтевший листок бумаги в карман.
И все же на обратном пути, сидя в машине, он подумал, что для принятия решения полученной информации хватит. Ответ подтверждал, что все это колоссальное дело — реальность. Невероятно, но факт.
Он остановился в отеле “Валенсия”, в номере, из которого открывался вид на бухту. Парк под окном был изъеден постоянно грызущим его приливом — об этом говорили прерывающиеся дорожки. Вдоль всего берега волны подмывали грунт, берег нависал над морем уступами, готовыми вот-вот обрушиться. Но, кажется, этого никто не замечал.
Петерсон отпустил охрану и шофера лимузина на ночь. Из-за них окружающие слишком обращали на него внимание, а Петерсону хотелось побыть одному, чтобы снять напряжение и поразмыслить над своим успехом в банке. Ему пришлось раз тридцать проплыть взад-вперед в бассейне, чтобы успокоиться. Затем он обошел ближайшие магазины. Особенно его интересовала готовая одежда, причем в тех магазинах, где костюмы демонстрировали в сценах, изображавших жизнь английских и французских замков. Конечно, в этой стране у людей водились деньги, но Петерсону казалось, что большая их часть тратилась неправильно. Люди здесь выглядели бойкими, чисто одетыми и даже холеными. Однако разница состояла в том, что преуспевающий человек в Англии сразу становился заметным, а здесь это не прибавляло человеку даже немного вкуса.
На улицах в основном встречались пожилые люди. Если им не уступали дорогу, некоторые из них грубили. Но атлетического сложения молодежь пребывала в прекрасном настроении. Как всегда, в основном его интересовали женщины, одетые с иголочки и ухоженные. Во взглядах прохожих светилась благожелательность, успешно сочетавшаяся с некоторым налетом преуспевания и безразличия. Петерсон немного завидовал такой жизни. Он знал, что на этих людей, уверенно фланирующих по бульвару Жирард, давил целый свод ограничений, так же как и в Англии, — в Южной Калифорнии существовали лимиты на иммиграцию, на недвижимость, на пользование водой, на смену работы и автомашин, короче говоря, на все, — но тем не менее выглядели они свободными. Здесь, в отличие от Европы, не чувствовалась изношенность мира, которая многими почему-то воспринималась как зрелость. Он всегда считал, что американкам не хватает глубины и значительности европейских женщин. Все они казались на одно лицо — гладкая кожа, открытый взгляд. Компетентные в сексе, они относились к нему как к вещи обыденной, которой не стоит уделять много внимания. Если им предлагали переспать, они не удивлялись и не возмущались. Их “да” означало просто “да”, а “нет” — “нет”. В отношениях с американками ему не хватало какого-то вызова двусмысленности, когда “нет” означает “может быть”, то есть элегантного совращения. Эти “эмансипэ” не играли ни в какие игры. Энергичные, умелые, но без таинственности и утонченности, они предпочитали прямые вопросы и прямые ответы. И всегда оставляли последнее слово за собой.