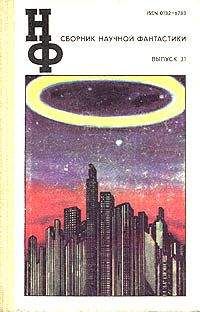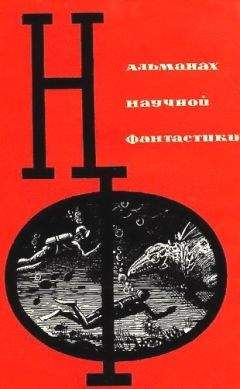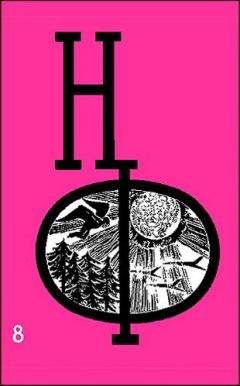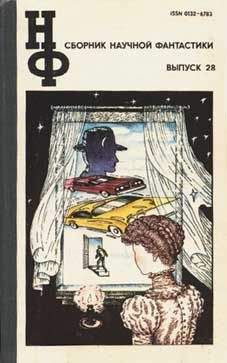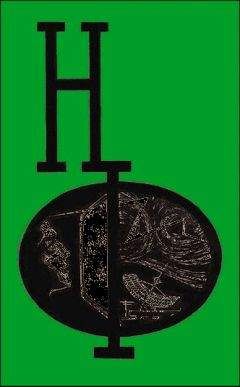Еремей Парнов - НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 25
Посреди очередной поляны он остановился и запрокинул шишковатую голову. Над ним, обрезанный темными тенями ветвей, мерцал звездный туман, клубясь по высокому, неистово синему своду. Звезды всегда помогали художнику. Стоило их увидеть — и самые сложные картины всегда получались хорошо. Художник не понимал, почему другие не любят смотреть на звезды.
Со сдавленным стоном он опустился на влажную землю и коротко обратился к Ку-у, прося помощи. Только знак. Больше не надо ничего, только знак, остальное он сделает сам. Он будет неутомим, как ветер, он вечно будет идти, не замечая боли, — только знак, что путь выбран верно, что страдания не напрасны. Но не было знака.
…Он кончил рисовать медведя и приготовился проткнуть его где полагалось черточками копий.
Род рос, ему нужна была пещера побольше. Но в единственной пещере, которую удалось найти в округе, жил медведь. Надо было его убить. С такой задачей род не сталкивался давно — только самые старые помнили, как убивать медведя, да и то каждый из них советовал свое.
Чья-то тень упала на стену, и художник услышал за спиной знакомое дыхание. Художник обернулся. Вождь некоторое время внимательно рассматривал картину, а потом сказал:
— Хорошо. — Помедлил и добавил: — Хватит.
— Что — хватит? — удивился художник.
— Рисовать — хватит.
— Надо копья.
— Не надо копья.
— Не надо копья?
— Не надо копья. Мы не будем плясать у картины.
Художник опустил выпачканные красками руки.
— Мы не пойдем на медведя?
Вождь прятал глаза.
— Мы пойдем на медведя, — ответил он. — Мы не будем плясать у картины. Ты не будешь рисовать копий. Ты не будешь рисовать ничего.
Художник медленно поднялся, и его помощник, деловито растиравший глину, поднялся тоже.
— Как же можно не рисовать копий? — растерянно спросил художник. — И как же можно ничего не рисовать?
— Ты будешь охотиться, как все, — с внезапной твердостью сказал вождь. — Твой помощник тоже будет охотиться, как все. Рисовать не надо. Вы, двое мужчин, тратите все время на дело, с которым справится любая старуха. Это глупо. — Он помолчал. — Рисовать не надо. Мы сотрем все это. — И он широко взмахнул рукой в сторону стены художника.
Художник посмотрел на вождя, а потом повернулся к своим картинам. Здесь были все звери, каких только видели глаза людей. И люди здесь тоже были. В каждом из них был кусочек вечного неба, в каждой линии искрились звезды. Не рисовать художник не мог.
— Я не дам, — хрипло сказал он и вновь повернулся к вождю. — Пускай останется. — И чтобы сделать свои слова более весомыми, страшно оскалился и зашипел, пригибаясь, хотя прекрасно понимал: если они решили, они сотрут. Он только не мог понять зачем.
— Мы решили, — сказал вождь и уставился художнику прямо в глаза. — Они не нужны и мешают.
— Кому мешают? — спросил художник.
Вождь стиснул кулаки. Каждый из них был величиной чуть ли не с голову художника. Художник старался не смотреть на эти кулаки.
— Кому мешают? — отчаянно спросил он еще раз, и вдруг его помощник тоже стиснул кулаки. Вождь недобро покосился на помощника и медленно сел, скрестив могучие ноги, бугристые от шрамов.
— Садись и ты, рисующий людей и зверей. — Он стукнул по земле рядом с собой. — Ты хочешь говорить, тогда поговорим, раз ты хочешь. И ты садись, растирающий глину. Нет, не здесь, а там садись, чтобы не слышать, что я буду говорить.
— Почему он не будет слышать, что ты будешь говорить? — спросил художник. — Он растирает глину. Я велю ему остаться здесь.
— Ты не велишь ему остаться здесь, — возразил вождь. — Потому, что я хочу говорить так, чтобы он не слышал, а только ты слышал.
— Я хочу, чтобы он слышал все, что слышу я, — упрямо сказал художник, но вождь лязгнул челюстями и гулко ударил себя в волосатую грудь.
Когда растирающий глину отошел, вождь перевел взгляд на художника.
— Ты рисуешь копья, — проговорил он. — И все пляшут, и старейшины просят удачи. А потом настоящие копья не попадают.
— Значит, надо рисовать еще, — вспыхнул было художник, но вождь прервал его.
— Ты рисуешь, а мы охотимся. Ты сидишь в пещере и ешь, что мы приносим, а мы погибаем и получаем раны, а твой помощник сидит с тобой и растирает тебе глину. Не говорю: твоя вина. Не говорю: тебя убить. Но род перестает верить. Раньше думали: нарисовать победу — и будет победа. А теперь видим так: нарисовать победу одно, а добиться победы другое. Рисовать не помогает. Рисовать мешает, потому что вы не охотитесь, и всем обидно.
Художник сидел как оглушенный и долго не мог ответить.
— Я буду рисовать, — сказал он потом.
— Ты не будешь рисовать, — тяжело вздохнув, ответил вождь. — Ты будешь охотиться.
— Я рисую хорошо. — Художник нервно сцепил тонкие пальцы. — Старейшины просят плохо.
Вождь угрожающе встал, и помощник, увидев это, тоже встал, хоть и не слышал слов.
— Это тоже думают, — сказал вождь. — Некоторые думают: он рисует хорошо, это видно. Как просят старейшины — не видно, и они просят плохо. Такая мысль хуже всех.
— Я буду охотиться, а потом рисовать. Ты не велишь стирать, — попросил художник, вставая.
Вождь опять тяжело вздохнул и наморщил лоб.
— Рисуй медведя и копья, — сказал он после долгого раздумья. — Так, как только умеешь, рисуй копья. И мы не будем плясать. И старейшины не будут просить. И мы не пойдем убивать медведя. Ты и твой помощник нарисуете хорошо, а потом пойдете и убьете хорошо. И если не убьете, то вы рисовали плохо, и больше не надо.
— Вдвоем?
— Да, — подтвердил вождь. — Рисуй хорошо.
…И вот помощник погиб, и Ку-у молчит, и нет сил идти.
И медведь невредим.
И картины сотрут.
Эта мысль подстегнула художника. Он заворочался, пытаясь встать. Если бы хоть кто-то подал руку… Никто не подавал руки. Загребая воздух пятерней, художник старался подняться и стискивал, стискивал зубы, чтобы не закричать. Кричать нельзя — лес всегда идет на крик, там легкая добыча, там пища. На крик о помощи всегда приходит убийца. Надо встать. Надо добраться до своих. Там помогут, там же люди… люди… если позволит вождь… если согласятся старейшины, то… люди…
Он встал и пошел.
…Он лежал, запрокинув голову, хрипло и коротко дыша. Рядом сидела на корточках старуха и обмазывала раны травяным настоем. Она невнятно бормотала, чуткими пальцами трогая распоротое, раздавшееся в стороны скользкое мясо. Вождь возвышался над ними как скала, его лицо было угрюмо.
— Мы не убили медведя, — выдохнул художник. — Нас было мало.