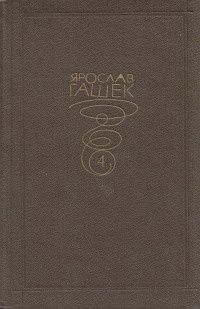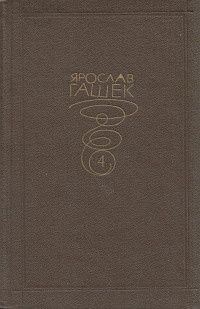Герберт Уэллс - Пища богов (пер. Тан)
— Ах, какой надоедливый мальчишка! — восклицала мать. — С тех пор, как бабушка скончалась, с тобой сладу никакого нет! Задавай поменьше вопросов — и тебе меньше будут лгать. Если бы я стала толковать с тобой серьезно, так отцу пришлось бы идти ужинать в трактир. Не мешай мне стирать белье.
— Хорошо, мама, — отвечал молодой великан, с удивлением глядя на мать. — Я не знал, что надоедаю тебе!
Затем он уходил в глубокой задумчивости.
5
Так же задумчив он был и четыре года спустя, когда викарий, теперь уже не только зрелый мужчина, но совсем старик, виделся с ним в последний раз.
Представьте себе согбенного старичка, с трясущимися руками, неверной поступью, ослабленным мышлением и слабым голосом, но все еще с живыми и веселыми глазами, несмотря на годы и на массу неприятностей, пережитых им за последние пятнадцать лет из-за «Пищи богов». Неприятности эти пугали и раздражали его когда-то, но теперь, он с ними свыкся, примирился и, несмотря на крупные перемены в обстановке, все еще доживал свой век.
— Да, признаюсь, это было неприятно, — говорил он. — Все кругом во многих отношениях изменилось. В былые времена мальчишки могли косить или жать, а теперь для этого должен идти взрослый человек с топором или пилой — в некоторых местах, по крайней мере. Нашему брату, старику, странно видеть, разумеется, колосья пшеницы в двадцать пять футов вышиною, как в нынешнем году, после орошения. Лет двадцать назад здесь пользовались старинной косою и привозили снопы попросту на телегах да еще радовались такому урожаю… Мы выпивали, бывало, а потом, осенью, начинались свадьбы…
Бедная леди Уондершут, — продолжал он, помолчав немножко, — ей эти нововведения очень не нравились. Старого закала была дама. Я всегда говорил, что от нее пахнет восемнадцатым столетием. Как она говорила, например: сила, энергия, властность! Теперь уже нет таких… Умерла она почти в бедности. Все дела забросила… да и как было не забросить, когда мир в ее глазах чуть ли не вверх ногами повернулся! Вот хотя бы эта гигантская трава, заполнившая весь ее сад. Покойница не особенно занималась садоводством, но она любила порядок, любила, чтобы все росло там, где посажено, и так, как следует. А тут — поди-ка — справиться с травою невозможно! Это ее подкосило…
Ну, а потом надоедало ей и наше молодое чудовище, повсюду попадавшееся покойной на глаза. Под конец она думала, что он только и делает, что смотрит на нее через забор. Не нравилось ей и то, что он почти перерос ее дом. Это оскорбляло сильно развитое в ней чувство пропорциональности… Да… жаль бедную… Я надеялся, что ее на мой век хватит, а вот пережил… Майские жуки ее доконали. Они вывелись из гигантских личинок там, в болоте… А личинки-то больше, чем крысы… Так и бегают. Ну, и муравьи тоже… Покоя себе не находила, бедняжка! Родное гнездо ей опротивело. «Поеду, — говорит, — в Монте-Карло, не все ли равно, где жить». И уедала. А там — игра. Сильно, говорят, играла… И умерла в гостинице… Печальный конец! Все равно что в изгнании… Да, не знаешь, что тебя ожидает. Жаль только, что аристократия — единственный вождь английского народа — теряет под собой почву… Искореняется. Это уж точно! А все-таки все — пустяки, в сущности, — продолжал викарий. — Ну, неприятно, разумеется: дети, например, не могут пользоваться былой свободой (из-за' муравьев и прочих вредных тварей), но ведь и только. Прежде говорили, что эта Пища произведет полный переворот во всем. Да не тут-то было! Есть что-то такое в природе, что не боится никаких новшеств. Я не знаю, что это такое. Я не принадлежу к числу новых философов, объясняющих все эфиром да атомами… Вот еще — эволюция!.. Пустяки все это… То, о чем я говорю, ни в каких логиках не описывается… Называйте как хотите: отвлеченный разум, сущность человеческой натуры, мировая мудрость… Как хотите назовите!
Так викарий мирно дожил до конца. Он не предчувствовал близости смерти и ежедневно по обыкновению гулял, причем доходил и до известковых ям, хотя далеко уже не с прежней легкостью взбираясь на гору. В последний раз ему не пришлось, однако, идти так далеко. Каддльс не работал, и викарий набрел на него чуть ли не за полмили от вершины горы. Гигант сидел на холмике, поджав под себя ноги и опершись головой на руки. Он сидел боком к викарию и так задумался, что совсем не заметил последнего и не обернулся.
Так он и не узнал никогда, что викарий, игравший очень крупную роль в его жизни, в последний раз долго смотрел на него (в нашем странном мире люди часто расстаются таким образом навсегда).
А викарий смотрел потому, что его на минуту заняла мысль: о чем может думать этот великан, отдыхая от работы? Но он был слишком уже слаб, чтобы остановиться на этой мысли, и тотчас же мысли его покатились по привычному руслу.
— Aere perennius [Тверже меди. (лат.)], - прошептал он, возвращаясь назад по тропинке, которая теперь уже не шла прямо как стрела, а вилась змееобразно, огибая кусты гигантской травы. — Aere perennius! Ничто не изменилось… Размеры ничего не значат… Скоро все опять придет в соответствие, и жизнь пойдет прежним путем… Вечный круг…
И в эту же самую ночь, никем не замеченный, совершенно безболезненно он ушел из этого мира, в котором потратил столько усилий на отрицание таинства перемены.
Похоронили викария около церкви под развесистым тисом; скромный памятник его, с эпитафией, кончающейся словами: ut in principio, nunc est et semper [Как сначала, так сейчас и всегда (лат.)], почти тотчас же зарос гигантской травой, семена которой были, вероятно, занесены на кладбище из той долины, в которой работала «Пища богов». Коса эту траву не брала, скот ее не ел, а потому могила викария, вероятно, и до сих пор скрыта от глаз человеческих.
Книга третья
СТАРОЕ И НОВОЕ
1
Перемена совершалась постепенно в течение двадцати лет. Она, конечно, замечалась, но для большинства не была внезапной и не могла ошеломить. Только одному человеку результаты двадцатилетнего влияния «Пищи богов» на мир открылись сразу, внезапно, в один день. Нам очень полезно будет пережить вместе с ним этот день и увидеть то, что он видел.
Этот человек был преступник, присужденный к пожизненному тюремному заключению (за какое преступление — это нас не касается), но получивший прощение по прошествии двадцати лет. В одно прекрасное летнее утро этот несчастный, ушедший из общества двадцатитрехлетним молодым человеком, вновь перешел от дисциплины сурового и однообразного труда к ослепляющей суете свободы. На него надели платье, от которого он давно уже успел отвыкнуть, обрили отросшую за время заключения бороду и выпустили на свет как новорожденного ребенка, крайне беспомощного и совершенно не знакомого с окружающим миром. К счастью, у него нашелся родной брат, оставленный когда-то бедным мальчиком, а теперь выросший в представительного, бородатого и зажиточного джентльмена. Также к счастью, брат этот не только не отвернулся от него, но даже сам явился за ним в тюрьму и дружески, от всего сердца, обнял его во имя общих воспоминаний о родительском доме. Оба приехали в Дувр и рука об руку шли теперь по улицам этого города, мало разговаривая от избытка ощущений.