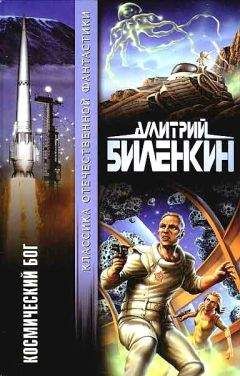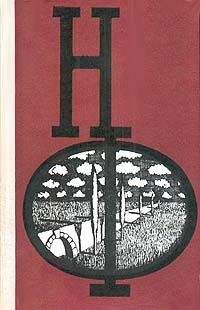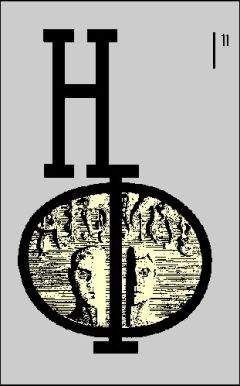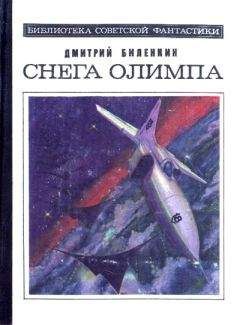Дмитрий Биленкин - Пустыня жизни
Мне и то было немного не по себе, хотя я не раз встречался с Диагностом. Такова уж, видимо, человеческая природа, что, доверяя машине, мы ее все-таки чуть-чуть побаиваемся, во всяком случае, века привычки не изгладили это чувство до конца: можно сказать "брысь!" киберу и тут же о нем забыть, можно с тем же безразличием усесться за штурвал обычного космолета, но когда машина тебя изучает, в душе поднимается что-то дремучее. Самого обследования я, кстати сказать, почему-то не боялся, хотя после всех передряг что-то вполне могло отклониться от нормы. Видимо, как всякий молодой человек своего времени, я был несокрушимо уверен в надежности своего здоровья и психики. Так или иначе, надежда эта не подвела; диагност подтвердил, что со мной все в порядке, правда, тут же добавил, что в иных условиях он настоял бы на длительном отдыхе.
Лица окружающих посветлели, кто-то даже облегченно вздохнул. Я не сразу понял оговорку диагноста, потом сообразил, в чем дело. В программу аппарата ввели дополнительное условие! Ему приказали сверить мое состояние с теперешним среднестатистическим индексом здоровья юношей, теперешним, а не тем, который еще недавно считался нормой. Ничего хорошего в этом не было. Куда дальше! Возможно, что без такого уточнения программы обследования диагност стал бы браковать всех подряд, всех нас, усталых, живущих на нервах, непохожих на себя прежних.
Самое удивительное, что нервно-физическую годность Эй диагност признал без всякой оговорки. Вот это устойчивость! Впрочем, в ее время выживали сильнейшие. К тому же, чем тоньше нервная организация, тем она уязвимей, хотя у нее, конечно, есть свои преимущества.,
Я встал, оделся, проследил за тем, как одевают Эю. Умытая, причесанная, в добротном костюме разведчика, она более ничем не отличалась от девушек нашего времени, - пока спала, разумеется.
Никаких торжеств, как я и предполагал, не последовало. Два-три крепких объятия, это все. Мне помогли залезть в люк, подали туда тело Эй, помахали рукой, я удивился, сколько собралось народу. Последним исчезло взволнованное лицо моего голубоглазого наставника, который, привстав на цыпочки, беззвучно шептал что-то, может быть, давал последние советы. Входная мембрана затянулась.
Я привязал Эю, затем себя, огляделся. Внутри кабины ничто не напоминало о недавнем разоре; все действовало, что надо - светилось, что надо подмаргивало крохотными огоньками, успокоительно тикало, нигде ни царапинки, ни пылинки, словно грубый инструмент никогда ни к чему не прикасался, а все вышло само собой, без мук овеществилось, как было задумано. Впрочем, особо присматриваться было некогда, да и незачем, все было и так известно даже на ощупь и, само собой, трижды перепроверено. Следя за индикаторами, я отвечал "в норме, в норме!", то есть делал примерно то же самое, что недавно, обследуя меня, делал диагност.
Наконец, пошел отсчет предстартовых секунд, такой же обычный, как если бы предстояло отправиться на соседнюю планету.
Одиннадцать, десять...
Моряков в неведомое провожали долгими богослужениями, космонавтов напутствиями и цветами, меня...
...Восемь, семь, шесть...
Эскалация будничности?
...Пять, четыре...
Нет, тут, пожалуй, другое. Мореплавание совершенствовалось тысячелетиями, все развитие авиации до прорыва в космос заняло немногим более полувека, ну а хронавтика... Все ускоряется, решительно все.
...Три, два...
Посторонние мысли, как всегда, помогли перебороть волнение. Только на мгновение при слове "один!" по сердцу прошлась мохнатая когтистая лапа.
Еще секунда, и я исчезну, провалюсь туда, откуда, как из царства мертвых, еще никто не возвращался
...Ноль!
Я ждал толчка, полета, удара или мгновенной гибели.
Ни звука, ни вибрации, ничего.
Неудача?
Сердце окатила тревога. Мне вдруг почудилось, что я уменьшаюсь, что внутри меня сокращаются легкие, сердце, все, и так же точно уменьшаются кресла, табло и переключатели пульта, сжимается сама кабина, хотя если так было в действительности и все сокращалось соразмерно, то заметить этого я никак не мог. Выходит, началось?..
Длилось это мгновение, но ощущение было жутковатым. Настолько, что в поисках поддержки я глянул на Эю. Ее тело по-прежнему обвисало на ремнях, но глаза были открыты и смотрели невидящим взглядом сомнамбулы.
Я не успел ни испугаться ее взгляда, ни удивиться, потому что сразу же началось то, к чему никто из нас не был готов, ибо ничего подобного теоретики представить себе не могли, а счастливо вернувшиеся из времени животные, понятно, безмолвствовали.
Как бы все это выразить?
Рациональное объяснение инаковости, в которой я очутился, бессильно передать мои впечатления, но без него вряд ли можно обойтись.
Все, что ни на есть в этом мире, подобно фотопластинке, и бросовый камешек под ногами хранит в себе сведения о прошлом Земли, в нем запись о магматическом пекле и горных ветрах, вспышках сверхновых звезд и мхе, которым он некогда был покрыт. В нем же вся физикохимия, по законам которой он возникал, существовал, менялся. Такова скрытая душа всех вещей. Неузнанная, она присутствует и в нас, причем мы единственные, кто способен внести в эту запечатленную вселенную факел и прочесть при его свете тайные страницы. Так перед разумом открывается двоящийся путь познания - вовне и в себя, в мир и в его самоотражение. По виду оба направления противоположны, а на деле едины, как ветви и корни дерева, одни из которых тянутся к свету, а другие уходят во мрак. Познавая, мы узнаем, и наоборот. В этом, по теории Иванова-Бодчены, секрет интуиции, тех "внезапных и опасных", как их назвал де Бройль, скачков ума, которые без видимого участия логики вдруг приводят к открытиям. Дотоле разрозненные факты так внезапно, естественно и самоочевидно укладываются в рисунок истины, будто в подсознании для них уже существовала канва, матрица. Она и была, поскольку мы в мире, но и он в нас. Логика и прозрение неразделимы, как шаг правой и левой ноги, только для самого разума одна сторона этого движения зрима, точно ее высвечивает солнце, а другая погружена в неразличимую тень.
Теория познания-узнавания прояснила, каким образом древние мыслители без точного инструмента и опыта смогли представить атомную структуру вещества, как они вывели происхождение человека от рыб, догадались о сложности вакуума и о многом другом, что подтвердилось лишь спустя тысячелетия.
Однако Иванов с Бодченом, как и их последователи, спасовали перед такой загадкой. Жизнь развивалась в пространстве и во времени, свойства того и другого вроде бы одинаково должны были запечатлеться в ней, следовательно, познающий мозг вроде бы одинаково способен проникнуть в глубины того и другого. Но если мысль очень рано прозрела тонкие, скрытые, неочевидные свойства и особенности пространства, то в познании времени она словно наткнулась на глухую преграду. Время абсолютно, всюду одинаково и всюду едино: так думали до двадцатого века. Почему здесь все так затормозилось? Ни малейшего узнавания, ни одного самого крохотного прозрения! Неужто мозг, это изумительное зеркало глубинных черт природы, здесь не запечатлел ничего?