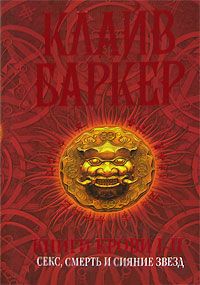Филип Фармер - В свои разрушенные тела вернитесь
Бартон как-то осторожно упрекнул его за это (резко разговаривать с ним было небезопасно — это грозило смертным боем с «обидчиком»), указав, что когда они находятся на незнакомой территории и у хозяев явно численный перевес, ему бы следовало вести себя как подобает вести гостю. Де Грейсток согласился с Бартоном, но все же не мог удержаться и не поиздеваться над каждым встречным священником. К счастью, сейчас они редко бывали в районах, где жили попы-христиане. Да к тому же оставалось все меньше попов, которые открыто заявляли, что некогда были служителями церкви.
Рядом с ним, если говорить честно, была очередная его женщина, урожденная Мери Резерфорд (1637), умершая будучи леди Уорвикспир (1674). Она была англичанкой, но жила на триста лет позже его, и в их отношениях и поступках было очень много разного. Поэтому Бартон старался не давать им возможности подолгу оставаться вместе.
Казз лежал на палубе, положив голову на колени Фатимы, турчанки, которую неандерталец повстречал несколько дней назад во время обеденной стоянки. Фатима, как сказал Фригейт, могла «повеситься ради мужского волосатого тела». Так он объяснял странную одержимость жены пекаря из Анкары, жившей в семнадцатом веке, этим получеловеком — Каззом. Он вообще возбуждал ее, но его волосатость доводила ее до экстаза. Обоим это доставляло удовольствие и особенно, конечно же, Каззу. В течение их долгого путешествия он так и не встретил ни одной женщины-соплеменницы, хотя о некоторых и слышал. Большинство женщин человеческого рода пугались его заросшей волосами звериной внешности. И у него не было постоянной женщины, пока он не встретил Фатиму.
Маленький Лев Руах оперся о передний край «замка», где он мастерил пращу из шкуры рогатой рыбы. У него в мешке лежало более тридцати камней, собранных им за последние двадцать дней. Рядом с ним что-то быстро говорила Эстер Родригес, непрерывно показывая длинные белые зубы. Она заняла место Тани, у которой до отплытия «Хаджи» Лев Руах находился под каблуком. Таня была очень привлекательной и к тому же миниатюрной женщиной, но она, как оказалось, была не в состоянии удержать себя от того, чтобы не воспитывать близких ей мужчин. Лев узнал, что она в свое время «перевоспитала» отца, дядю, двух братьев и двух мужей. Она попыталась то же самое сделать и с ним, причем делала это достаточно громко для того, чтобы ее добродетельные советы слышали и другие находящиеся по соседству мужчины. В тот день, когда «Хаджи» отправлялся в плавание, Лев прыгнул на борт, обернулся и сказал:
— Прощай, Таня! Больше я не в состоянии выносить самый большой рот Бронкса. Поэтому поищи себе кого-нибудь другого — получше меня.
Таня задохнулась от неожиданности, побледнела, а затем стала кричать на Льва. Она продолжала кричать довольно долго, судя по жестикуляции, даже после того, как «Хаджи» вышел из зоны слышимости. Все смеялись и поздравляли Руаха, но тот только печально улыбался. Через две недели в местности, населенной преимущественно древними ливийцами, он повстречался с Эстер, испанской еврейкой пятнадцатого столетия.
— Почему бы вам не попробовать удачи с женщиной другой национальности? — как-то поинтересовался Фригейт.
— Я уже пробовал. Но рано или поздно случается крупная ссора, и они выходят из себя и называют меня «грязным жидом», а это я еще как-то могу стерпеть только от женщин-евреек.
— Послушайте, дружище, — рассмеялся американец и развел руками. — Но вдоль этой Реки есть миллиарды не-евреек, которые и понятия не имеют о евреях, так как в их времена тех просто не существовало. У этих женщин не может быть никаких предрассудков относительно вашей национальности. Что если вам попробовать с одной из них?
— Я привык выбирать зло, с которым знаком.
— Вы имеете в виду, что уже привыкли к этому? — спросил Фригейт.
Бартон иногда задумывался, почему Руах поплыл с ними. Он больше никогда не упоминал «Еврея, Цыгана и Эль-Ислама», хотя частенько спрашивал Бартона о других сторонах его прошлого. Он был достаточно дружелюбен, но казалось, что все-таки что-то скрывает. Хоть Руах и был малого роста, он хорошо зарекомендовал себя в бою и не имел цены, обучая Бартона дзюдо, карате и самбо. Отпечаток печали, который всегда лежал на его лице, подобно пуританскому ореолу, даже когда он смеялся или занимался любовью, по словам Тани имел корни в душевных травмах, нанесенных ему на Земле. Таня как-то сказала, что он уже и родился печальным, унаследовав гены печали с тех времен, когда его предки сидели под ивами у вод вавилонских.
Монат был другим образцом грусти, хотя иногда он мог полностью отогнать ее от себя. Таукитянин все еще искал своих соплеменников, кого-нибудь из тридцати женщин и мужчин, разорванных на куски толпой линчевателей. Он понимал, что шансов у него немного. Тридцать среди примерно 30 или 35 миллиардов людей, разбросанных по берегам невообразимо длинной Реки. Вероятность встретить когда-нибудь хотя бы одного была практически равна нулю. Но надежда все же оставалась.
Алиса, как правило, сидела на носу судна. Она принималась разглядывать людей на берегу, как только лодка приближалась к нему настолько близко, что можно было различить отдельные лица. Она искала своего мужа, Реджинальда, а также троих сыновей, отца, мать, братьев и сестер — любое дорогое ей лицо. Подразумевалось, что она тотчас же покинет лодку, как только встретит кого-нибудь. Бартон ничего не говорил по этому поводу — он ощущал боль в груди при одной только мысли об этом. Он хотел, чтобы она ушла, и одновременно не желал этого. С глаз долой — из сердца вон. Это было неизбежно. У него было к ней такое же чувство, как некогда к персиянке. Он боялся потерять эту женщину, помня о той вечной земной пытке.
Однако он ни разу даже словом не обмолвился о своих чувствах. Он заговаривал с ней, давая понять, что находит забавным, если она не отвечает на его вопросы. В конце концов он добился, что она начала довольно непринужденно разговаривать с ним, но только не наедине. Едва они оставались одни, она еще больше замыкалась.
С той первой ночи она никогда не пользовалась жвачкой. Он попробовал ее в третий раз, а затем весь свой запас обменял на более нужные предметы обихода. В последний раз, когда он жевал резинку, он надеялся на необычайно упоительное совокупление с Вильфредой. Однако он внезапно перенесся на Землю, в то время, когда заболел в экспедиции к озеру Танганьика страшной тропической болезнью, едва не стоившей ему жизни. Кроме того, в этом кошмаре был Спеке, и он убил его. На самом деле Спеке погиб во время «несчастного случая» на охоте, хотя все считали, что это самоубийство. Но никто не высказывал этого вслух. Спеке, терзаемый угрызениями совести за то, что предал Бартона, застрелился сам. Но в кошмаре он задушил Спеке, когда тот наклонился к нему, чтобы спросить, как Бартон себя чувствует. Затем, ближе к концу кошмара, он целовал Спеке в мертвые губы.