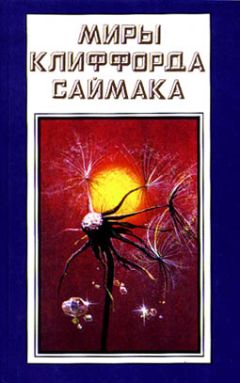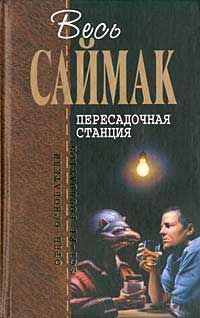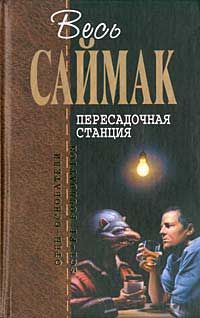Клиффорд Саймак - Планета Шекспира
— И этого вы собираетесь достичь, питаясь вместе с нами мясом?
— Ну, это для начала, и я полагаю, это еще немногое. Но если отбросить половинчатость, то, пожалуй, я смогу выработать вкус к плоти. Ты бы не мог удостовериться, что мой бифштекс хорошо прожарился? — обратилась она к Никодимусу.
— Уже уверен, — отвечал Никодимус. — Я начал готовить ваш куда раньше, чем картеров.
— Много раз приходилось мне слышать от моего старого друга Шекспира, — вступил Плотоядец, — что я законченный неряха, с манерами, не стоящими упоминания и грязными, неопрятными привычками. Я, сказать вам по правде, совершенно уничтожен такой оценкой, но я уже слишком стар, чтобы менять образ жизни, да и как ни прикидывай, из меня не выйдет жеманного щеголя. Коли я неряха, так мне это по душе, ибо неряшливость это вполне уютное положение для жизни.
— Ты неряха, это уж точно, — согласился Хортон, — но раз уж это тебя так радует, не обращай на нас внимания.
— Признателен вам за вашу любезность, — воскликнул Плотоядец, — и счастлив, что мне не придется менять привычки. Перемены для меня затруднительны. — Никодимусу он сказал: — Ты уже близок к починке тоннеля?
— Не только что не близок, — разочаровал его Никодимус, — но даже вполне уверен теперь, что ничего не выйдет.
— Ты хочешь сказать, что не сможешь его починить?
— Именно это я и хочу сказать — если у кого-нибудь не появится разумная мысль.
— Ну, — сказал Плотоядец, — хоть надежда всегда и бьется в потрохах, я не удивлен. Я долго ходил сегодня, советуясь с собой, и сказал себе, что многого ждать не стоит. Я сказал себе, что жизнь не была со мной строга и я получил от нее много счастья, и с такой точки зрения я не должен сетовать, если что-то пойдет не так. И я искал в уме другие способы. Мне кажется, что волшебство могло бы быть способом, который стоит испробовать. Вы сказали мне, Катер Хортон, что не верите в волшебство и не понимаете его. Вы с Шекспиром одинаковы. Он сильно потешался над волшебством. Говорил, что в нем нет ни черта хорошего. Быть может, наш новый земляк держится не столь жесткого мнения, — он с ожиданием обернулся к Элейне.
Та спросила:
— А ты пробовал свое волшебство?
— Пробовал, — уверил он ее, — но под презрительное улюлюканье Шекспира. Улюлюканье — так я себе сказал — подрезало волшебство под корень, обратило его в ничто.
— Ну, насчет этого я не знаю, — сказала Элейна, — но уверена, что пользы оно не принесло.
Плотоядец глубокомысленно кивнул.
— Тогда я сказал себе — если волшебство потерпело неудачу, если робот потерпел неудачу, если все потерпело неудачу, то что я должен делать? Оставаться на этой планете? Конечно нет, сказал я себе. Конечно, эти мои новые друзья отыщут для меня место, когда, покинув этот мир, они отбудут в глубокий космос.
— Так ты теперь полагаешься на нас? — спросил Никодимус. — Давай, вой, визжи, катайся по земле, топай ногами — никакой пользы тебе от этого все равно не будет. Мы не можем погрузить тебя в анабиоз, а…
— По крайней мере, — объявил Плотоядец, — я при друзьях. Пока я не умер, я буду с друзьями и вдали отсюда. Я занимаю немного места. Свернусь в уголке. Ем я очень мало. Не буду соваться под ноги. Буду рот держать на замке…
— То-то диво будет, — съязвил Никодимус.
— Это решать Кораблю, — сказал Хортон. — Я поговорю с Кораблем об этом. Но не могу тебя обнадежить.
— Поймите, — настаивал Плотоядец, — что я воин. У воина только один способ умереть — в кровавой битве. Так я и хочу умереть. Но может быть, со мной будет иначе. Перед судьбой я склоняю голову. Я не хочу только умирать здесь, где некому будет увидеть, как я умру, никто не подумает «бедный Плотоядец, он ушел от нас»; не хочу влачить свои последние дни среди отвратительной бессмысленности этого места, обойденного временем…
— Вот оно, — вдруг сказала Элейна. — Время. Вот о чем я сразу должна была подумать.
Хортон удивленно взглянул на нее.
— Время? О чем вы? Какое отношение у всего этого ко времени?
— Куб, — пояснила она. — Куб, который мы нашли в городе. С существом внутри. Этот куб — застывшее время.
— Застывшее время! — возмутился Никодимус. — Время не может застывать. Замораживают людей, пищу и прочее. Время не замораживают.
— Остановленное время, — поправилась Элейна. — Есть рассказы — легенды — что это возможно. Время течет. Оно движется. Остановите его ток, движение. Не будет ни прошлого, ни будущего — только настоящее. Неизбывное настоящее. Настоящее, существовавшее в прошлом и простирающееся в будущее, которое теперь становится настоящим.
— Вы говорите, как Шекспир, — проворчал Плотоядец. — Вечно обсуждаете глупости. Вечно вар-вар-вар. Говорите о том, в чем нет смысла. Лишь бы только говорить.
— Нет, это совсем не так, — настаивала Элейна. — Я говорю вам правду. На многих планетах ходят рассказы, будто временем можно манипулировать, будто есть способы. Никто не говорит, кто этим занимается…
— Может быть, народ тоннелей?
— Названия никогда не приводятся. Просто, будто это возможно.
— Но почему здесь? Для чего это существо вморожено во время?
— Может быть, чтобы ждать, — ответила она. — Может быть, для того, чтобы оно оказалось здесь, когда в нем возникнет нужда. Может быть, для того, чтобы те, кто запер существо во времени, не знали, когда наступит нужда…
— Вот оно и ждало веками, — дополнил Хортон, — и тысячелетия еще будет ждать…
— Но вы же не поняли, — сказала Элейна. — Столетия или тысячелетия, это все равно. В своем замороженном состоянии оно не воспринимает время. Оно существовало и продолжает существовать в пределах этой застывшей микросекунды…
Ударил божий час.
22
На миг Хортон оказался размазанным по вселенной с тем же самым болезненным ощущением безграничности, которое уже чувствовал прежде; затем размазанное собралось в одну точку, вселенная сузилась и ощущение странности исчезло. Вновь появились соотносимые время и пространство, ладно соединенные друг с другом, и он осознавал, где он находится, вот только казалось, будто его — двое, хотя эта его двойственность и не казалась неловкой, а даже была вроде бы естественной.
Он прижался к теплой черной почве между двумя рядками овощей. Впереди эти два ряда уходили все дальше и дальше, две зеленые линии с черной полосой между ними. Слева и справа находились другие параллельные зеленые линии с разделяющими их черными — хотя черные линии ему приходилось воображать, ибо зеленые ряды сливались и по обе стороны видно было одно сплошное темно-зеленое покрывало.