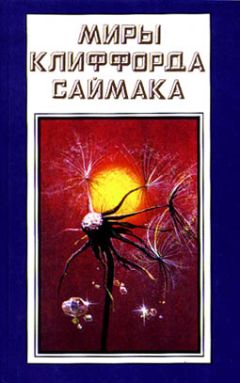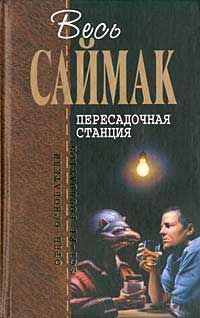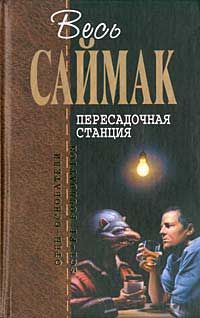Клиффорд Саймак - Планета Шекспира
Неприятная сторона тут, конечно, в том, что видишь и испытываешь чересчур много, и большая часть из этого — нет, все это — непонятна и когда все кончилось, то удерживаешь только его изодранный краешек, и страстно силишься понять — приспособлена ли и так ли устроена человеческая психика, чтобы понять более, чем толику того, чему был раскрыт. Я по временам размышляю, не может ли это быть специальным механизмом для обучения, но если и так, это сверхобучение, внедрение объемных ученых текстов в ум тупого студента, нетвердого в фундаментальных основах того, чему его учат и таким образом неспособному даже чуточку ухватить принципы, необходимые для хотя бы тени понимания.
Размышляю, сказал я, но размышления заходят лишь примерно столь же далеко, как эта данная мысль. С течением времени я все больше и больше утверждаюсь во мнении, что в божьем часу я сталкиваюсь с чем-то, вовсе для меня не предназначавшимся, и не предназначавшимся ни для какого человеческого существа; что божий час, чем бы он ни был, проистекает из некоей сущности, совершенно неосведомленной о том, что такая вещь, как люди, может существовать, которая бы могла разразиться космическим хохотом, если бы узнала, что такая штука, как я, существует. Я начинаю убеждаться, что меня попросту задевает его отдача, ударная волна какой-то шальной пули, нацеленной в куда большую мишень. Но убедился я в этом не ранее, чем пронзительно осознал, что источник божьего часа каким-то образом стал по меньшей мере косвенно осведомлен обо мне, и каким-то образом исхитрился глубоко зарыться в мои воспоминания и психику, ибо по временам вместо того, чтобы раскрываться космосу, я раскрываюсь сам себе, раскрываюсь прошлому и за период неведомой продолжительности проживаю свою жизнь снова, с некоторыми искажениями; события прошлого, почти неизменно бывшие до крайности отвратительными, выхватываются на миг из моего сознания, из грязи, где они лежали глубоко захороненными, а тут они вдруг извлекаются и расстилаются передо мной, покуда я корчусь от стыда и унижения при их виде, вынужденный вновь проживать определенные части своей жизни, которые я скрывал, не только от чужого зрения но и от самого себя. И даже хуже того, иные выдумки, которые в минуты беспечности я тайком лелеял в душе и ужасался, обнаружив, о чем я мечтаю. И они тоже в воплях и криках выволакиваются из моего подсознания и шествуют передо мной под безжалостным светом. Не знаю, что хуже — открытость вселенной или это раскрытие собственных тайн. Так мне стало ясно, что божий час откуда-то узнал обо мне — может быть, не обо мне собственно, как о личности, а как о неком пятнышке грязной и отвратительной материи, и помахивает на меня от раздражения, что нечто такое, как я может здесь оказаться, не уделяя времени, чтобы причинить мне сколько-нибудь реальный вред, не давя на меня, как я мог бы раздавить насекомое, а просто смахивая или пытаясь смахнуть меня в сторону. И я странным образом извлекаю из этого немного отваги, потому что если божий час знает обо мне лишь косвенно, то тогда, говорю я себе, я могу не ждать от него настоящей опасности. И если он уделяет мне столь незначительное внимание, тогда он, конечно, должен искать более крупную игру, чем я, и ужасно здесь то, что мне кажется — эта крупная игра должна быть здесь, на этой планете. И не просто на этой планете, а именно в этой данной части планеты — она должна быть недалеко от нас.
Я себе голову поломал, силясь представить, что это может быть и здесь ли все еще оно. Не был ли божий час предназначением для народа, населявшего заброшенный ныне город, и если так, то почему отвечающий за божий час орган не знает, что они ушли? Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что жители города не удовлетворяют параметрам цели, что божий час нацелен во что-то иное, все еще находящееся здесь. Я искал, что бы могло это быть и не получил никакого представления.
Меня преследует чувство, что я гляжу на цель день за днем и не узнаю ее. Эта мысль неприятна и вызывает жутковатое ощущение. Чувствуешь себя оторванным и тупым, а временами — и более, чем немного испуганным. Если человек может так оторваться от реальности, стать настолько слепым к действительности, таким бесчувственным к окружающему, тогда человеческая раса поистине куда более слаба и непригодна, нежели мы когда-то думали.
Дойдя до конца написанного Шекспиром, Элейна подняла голову от книги и посмотрела на Хортона.
— Вы согласны? — спросила она. — У вас тоже есть сходные чувства?
— Я прошел через это лишь дважды, — ответил Хортон, — Чувства мои в общей сумме пока что — огромная растерянность.
— Шекспир говорит, что этого нельзя избежать. Он говорит, что от этого невозможно спрятаться.
— Плотоядец от этого прячется, — сказал Никодимус. — Он уходит под крышу. Говорит, что под крышей не так плохо.
— Несколько часов спустя вы узнаете, — пообещал Хортон. — Я подозреваю, что это проходит легче, если не пытаешься ему сопротивляться. Это нельзя описать. Вы должны сами испытать это.
Элейна засмеялась, несколько нервно.
— Я едва в силах ждать, — сказала она.
21
Плотоядец пришел, тяжело ступая, в час перед закатом. Никодимус нарезал бифштексов и, сидя на корточках, поджаривал их. Он ткнул локтем в сторону большого куска мяса, который положил на подстилку из листьев, сорванных с ближайшего дерева.
— Это тебе, — сказал он. — Я выбрал кусок получше.
— Питание, — объявил Плотоядец, — это то, в чем я постоянно нуждаюсь. Благодарю вас от имени моего желудка.
Он поднял кусок мяса обеими руками и плюхнулся рядом с кучей хвороста, на которой сидели двое других. Плотоядец поднял мясо к морде и яростно вгрызся в него. Кровь полилась по его бакенбардам.
Вызывающе чавкая, он посмотрел вверх, на двоих товарищей.
— Надеюсь, — сказал он, — я вас не беспокою своей недостойной манерой питания. Я чрезвычайно голоден. Возможно, мне следовало бы подождать.
— Вовсе нет, — возразила Элейна. — Ешь дальше. Наша пища уже почти готова. — Она с болезненным интересом посмотрела на его окровавленные челюсти, на кровь, сбегавшую по щупальцам.
— Вам нравится доброе красное мясо? — спросил Плотоядец.
— Мне нужно к нему привыкнуть, — ответила она.
— В сущности, это вам не обязательно, — заметил Хортон. — Никодимус может подыскать вам что-нибудь другое.
Элейна покачала головой.
— Когда путешествуешь с планеты на планету, встречаешь много обычаев, кажущихся тебе странными. Некоторые из них могут даже быть шоком для твоих предрассудков. Но при моем образе жизни нельзя позволять себе предрассудки. Ум должен оставаться открытым и восприимчивым — нужно заставлять его оставаться открытым.