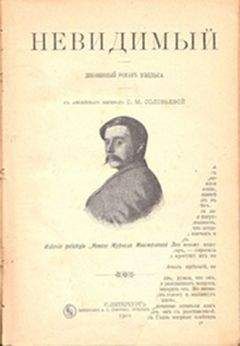Герберт Уэллс - Невидимка
— Стукнул его по голове? — воскликнул Кемп.
— Да, оглушил его, пока он сходил с лестницы, хватил его сзади стулом, что был тут же, на площадке. Он полетел вниз, как мешок со старыми сапогами.
— Но, как же это, знаете? Обыкновенные условия общежития…
— Годятся для обыкновенных людей. Дело в том, Кемп, что мне совершенно необходимо было выбраться из дому одетым, и так, чтобы он меня не заметил. Потом я замотал ему рот камзолом á la Louis XIV и завязал его в простыню.
— Завязали в простыню?
— Сделал ему что-то в роде мешка. Прекрасное было средство угомонить и напугать этого болвана: вылезти из мешка ему было бы трудно, чорт побери. Милый Кемп, что вы уставились на меня, как будто я совершил убийство? У него ведь быль револьвер. Если бы он меня хоть раз увидел, он мог бы описать меня…
— Но все же, — сказал Кемп, — в Англии, в наше время! И человек этот был в своем собственном доме, а вы… Ну да, вы обкрадывали его.
— Обкрадывал! Чорт знает что! Еще того не доставало, чтобы вы назвали меня вором. Но вы, конечно, не так глупы, Кемп, чтобы плясать по старинной дудке. Разве вы не понимаете моего положения?
— А также и его положения! — сказал Кемп.
Невидимый вскочил.
— Что вы хотите этим сказать?
Лицо Кемпа сделалось немного жестким. Он хотел что-то сказать, но удержался.
— В конце концов, — заметил он, — оно и действительно было, пожалуй, неизбежно: положение ваше было безвыходно. А все-таки…
— То-то и дело, что безвыходное, дьявольски безвыходное! А он к тому же разозлил меня: гонялся за мной по дому с этим дурацким револьвером, запирал и отпирал двери. Этакий несносный! Вы ведь не вините меня, не правда ли?
— Я никогда не виню никого, — сказал Кемп, — это совсем вышло из моды. Что же вы стали делать потом?
— Я был голоден; внизу нашлась коврига хлеба и немного прогорклого сыру, более чем достаточно чтобы насытиться. Я выпил немного водки с водою и прошел мимо своего импровизированного мешка, — он лежал совсем неподвижно, — в комнату со старым платьем. Она выходила на улицу, и окно было завешено кружевной, коричневой от грязи, занавеской. Я выглянул. На дворе был яркий день, — по контрасту с коричневой тьмою мрачного дома, где я находился, день ослепительно яркий. Шла оживленная торговля. Телеги с фруктами, извозчики, ломовик, тачка рыбного торговца. Я обернулся к темным шкафам позади себя, и в глазах у меня заплавали пестрые пятна. Возбуждение мое сменялось ясным сознанием своего положения. В комнате носился легкий запах бензина, служившего, вероятно, для чистки платья. Я начал систематический обзор всего дома. По видимому, горбун уже довольно долго жил один. Это было существо очень любопытное… Собрав все, что могло мне пригодиться, в кладовую старого платья, я сделал тщательный выбор. Нашел дорожную сумку, которая показалась мне вещью полезной, пудру, румяна и липкий пластырь. Сначала я думал выкрасить и напудрить лицо, шею и руки, чтобы сделать себя видимым, но неудобство этого заключалось в том, что для того, чтобы опять исчезнуть, мне понадобился бы скипидар, некоторые другие вещи и довольно много времени. Наконец я выбрал довольно приличный нос, немного смешной, правда, но не особенно выдающийся из большинства человеческих носов, темные очки, бакенбарды с проседью и парик. Белья я не мог найти, но его можно было купить впоследствии, а теперь пока я завернулся в коленкоровые домино и белые кашемировые шарфы; башмаков также не нашел, но сапоги на горбуне были просторные и годились. В конторке в лавке было три соверена и шиллингов на тридцать серебра, а в запертом шкафу, который я взломал, — восемь фунтов золотом. Обмундированный таким образом, я мог теперь снова я виться на свет Божий. Но тут напала на меня странная нерешительность. Была ли, в самом деле, прилична моя наружность? Я осмотрел себя со всех сторон в маленькое туалетное зеркальце, стараясь отыскать какую-нибудь упущенную мною щелку. Я был чудён в театральном духе, — какой-то театральный нищий, — но физической невозможности не представлял. Набравшись смелости, я снес зеркальце в лавку, опустил шторы и со всех возможных точек зрения осмотрел себя в трюмо. Несколько минут собирался я с духом, потом отпер дверь лавки и вышел на улицу, предоставляя маленькому горбуну выбираться из простыни по своему усмотрению. Казалось, никто не обратил на меня особенного внимания. Последнее затруднение было, повидимому, превзойдено.
Он опять остановился.
— А горбуна вы так-таки и оставили на произвол судьбы? — спросил Кемп.
— Да, — сказал Невидимый. — Не знаю, что с ним сталось. Вероятно, он развязал мешок или, скорее, разорвал его: узлы были здоровенные.
Он замолчал, подошел к окну и начал смотреть в него.
— Что же произошло, когда вы вышли на Стрэнд?
— О, опять разочарование. Я думал, что мои невзгоды пришли к концу, что в практическом отношении и получил теперь возможность делать все, что бы не вздумалось, решительно все, только бы не выдать своей тайны. Так я воображал. Что бы я ни сделал, какие бы не были последствия этого, — было для меня безразлично; стоило только сбросить платье и исчезнуть. Никто не мог задержать меня. Деньги можно было брать, где придется. Я решил задать себе великолепный пир, поселиться в хорошей гостинице и обзавестись новым имуществом. Самоуверенность моя не имела границ; не особенно приятно вспоминать, как я был ослом. Я пошел в трактир и уже заказывал себе завтрак, как вдруг сообразил, что не могу есть, не обнаружив своего невидимого лица. Я кончил заказывать завтрак, сказал лакею, что вернусь через десять минут, и ушел взбешенный. Не знаю, были ли вы когда-нибудь обмануты в своем аппетите, Кемп?
— Не до такой уж степени, — сказал Кемп, — но могу себе это представить.
— Я готов быль просто искромсать всех этих тупоумных дьяволов. Наконец, совсем обессиленный жаждой вкусной пищи, я зашел в другой трактир и спросил отдельную комнату. «Я изуродован, — сказал я, — получил сильные ушибы». Лакеи посмотрели на меня с любопытством, но, конечно, это их не касалось, и завтрак мне подали. Он был не особенно хорош, но я наелся досыта и, когда кончил, закурил сигару и стал обдумывать план будущих действий. А на дворе начиналась вьюга. Чем больше и размышлял, Кемп, тем яснее мне становилось, какую беспомощную нелепость представляет невидимый человек в холодном и сыром климате, в многолюдном, цивилизованном городе! Перед совершением своего безумного опыта я мечтал о всяких преимуществах. Теперь все мои мечты, казалось, разлетелись в прах. Я перечислил в голове все вещи, каких может желать человек. Конечно, невидимость делала возможным их достижение, но пользование ими она делала невозможным. Честолюбие? Какой толк в высоком звании, если вы не можете в нем появляться? Камой толк в любви женщины, если имя ее непременно будет Далила? Я не имел никакого вкуса к политике, к подонкам известности, к филантропии, к спорту. Что же мне было делать? Так вот для чего я обратился в завернутую тряпками тайну, в забинтованную и запеленатую карикатуру на человека!