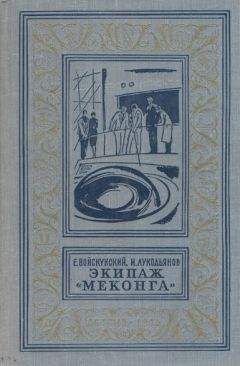Евгений Войскунский - Экипаж «Меконга»
Тяжелые предчувствия одолевали поручика Кожина. Он метался в тесной горенке по скрипучим половицам, ругательски ругал князя.
— Нам, худородным, — говорил Кожин, — сколь тяжко служба достается! Нами содеянное, хотя бы иройство Гераклово, ни за что почитается, а их, хоть и ничтожное, превозносится…
— Напрасно, Саша, беснуешься, — сказал Матвеев. — Сим неправды не изживешь. Да и не все твои речи истинны: ведь государь-то тебя перед прочими отличает. Какое доверие тебе оказано секретным ордером, о коем ты мне рассказывал. — Синими глазами поглядел он на низкое оконце, за которым угасал день, и мечтательно добавил: — Вот бы и мне с тобой в Индию…
— Ты и пойдешь, — неожиданно сказал Кожин. — В этом хоть я волен — себе попутчика избрать…
— Что ж ты не сразу сказал! — радостно воскликнул Федор и снова кинулся обнимать Кожина.
Но Кожину было не до восторгов. Отстранил Федора, опять зашагал из угла в угол.
— Государь-то мне доверяет, а они, псы высокородные, завидуют. Вот дойдем мы с тобой до Индии, если живота в пути не лишимся, вернемся — Бековичу за нас новый чин выйдет. Еще к акции не приступлено, а сколько людей поморили… — Вдруг остановился Кожин, хлопнул по столу ладонью. — Будя о сем. Развлеки, Федя, расскажи, как карету довез?
— Ох, Саша, не спрашивай! Сколько мук с ней принял, не приведи господь!
— Еще чем Ширгазы-хан за твою карету отплатит, — мрачно заметил Кожин. — Пока здесь чешемся да тянемся, он уже на нас войско сбирает…
На консилии, собранной Бековичем для обсуждения доноса Аюк-хана, Кожин не выдержал и вступил с Бековичем в крупные пререкания.
Низкая комната с мелкостекольчатыми окнами в астраханском кремле была битком набита начальными чинами экспедиции.
— Прошу, поручик, супротив воинского регламенту не дискусничать, — останавливал Бекович Кожина. — Противу государева ордера действий допустить не дозволю.
— А шкуру с себя хивинцам снять, полагаю, позволите? — язвительно спросил Кожин.
— Забываете, сударь, как надлежит со старшими в чине обходиться, — угрюмо промолвил князь Самонов.
— Дозвольте, князь, когда сикурс ваш понадобится, я оного сам попрошу, — холодно отстранил Самонова Бекович. — Поручик, очевидно, за шкуру мою опасаясь, своею такоже немало дорожит и не таит перед консилиею своих опасений.
Кожин в бешенстве вскочил со стула:
— Я шкурой своей не более иного дорожу! Посудите, князь, себя на место Ширгазы-хана поставьте: донесли бы вам, что идет-де мирное посольство с инфантерией, да с кавалерией, да с артиллерией…
— Войско с нами для охраны посольства и даров отправлено, — пытался успокоить его Званский, недавно назначенный экономом экспедиции.
— Для охраны! От тебя, что ли, охранять? Ты и так уж сукна переполовинил, что хану в подарок назначены! — не помня себя от злости, закричал Кожин.
— Поношение чести! — Званский рванулся к нему, хватаясь за шпагу.
Кожин не сдвинулся с места. Чуть побледнело его загорелое лицо.
— Прошу, государи мои, из субординации не выходить! — громко и властно сказал Бекович. — Господин поручик Кожин, соблаговолите, от осуждения, вам по чину не надлежащего, воздержась, кратко мнение свое сказать.
Кожин шагнул к князю. На лбу у него выступили капельки пота. Он утер их обшлагом мундира, неожиданно стих и поклонился Бековичу.
— Мнение мое таково, — негромко сказал он. — Как знатно в Хиве стало о нашем войске, все надо менять. Нельзя туда с малыми силами, как ныне знаем, что Ширгазы покориться не хочет. Дозвольте, как мне указано, — пойду сам, с двумя товарищами, переодевшись купчиной, не из Хивы, но отсюда. И про золото разведаю, и в Индию доберусь. А сгибну в тех злых краях — хоть малым числом, а не всем войском… А государю наискорее отписать, что в политиках перемена, что Ширгазы, ранее слабый, ныне зело силен стал…
— Довольно слушал я вас, поручик, — прервал его князь. — Ваша акция по государевым пунктам не от Астрахани, но от Хивы начинается.
— Так не хотите послушать доброго совета? — не своим голосом закричал Кожин. Он обвел взглядом собрание, потом резко повернулся и выбежал из комнаты, хлопнув дверью.
В комнате повисло тяжелое молчание.
Дверь заскрипела, приоткрылась. Заглянул денщик князя:
— Туркмен пришел до вашего сиятельства.
— Впусти.
Вошел высокий человек в полосатом халате, подпоясанном платком, свернутым в жгут. Длинные космы бараньей шерсти, свисавшие с огромной папахи-тюльпека, были выстрижены над лбом четырехугольником.
Туркмен быстро оглядел собрание умными черными глазами, поклонился по-восточному.
— Кназ Бекович ким ды?[8] — спросил он.
— Мен[9], — коротко ответил князь.
Туркмен пошарил за пазухой и протянул князю грязный, смятый пакет, запечатанный воском.
Писали Воронин и Святой. Когда Воронин явился к хивинскому двору, ему сказали, что хан Ширгазы ушел в поход на Мешхед, велели ждать. Держали при дворце; кормили сытно, но со двора не выпускали. Алексей Святой многими подарками убедил Колумбая содействовать, и хан Ширгазы, вернувшись в Хиву, принял у Воронина подарки и грамоты.
Далее писали разведчики: «А в Хиве нас опасаются и помышляют, что это-де не посол, хотят-де обманом взять Хиву, и за тем нас не отпущают… А в Хиве собрано войско и передовых за тысящу человек уже выслано…»
До утра князь просидел у стола, заваленного картами. Когда свечи оплыли и за мутными оконными стеклами забрезжил рассвет, князь поднялся и открыл окно. Свежий апрельский ветерок, пахнущий морем, ворвался в комнату, и в ясном утреннем свете улеглись тяжелые ночные сомнения.
Князь кликнул денщика, велел подать умывальный прибор. Скинув мундир, с наслаждением умылся.
В полдень, по приказу князя, снова собрались у него офицеры — продолжать консилию.
— Долго не задержу, — отрывисто сказал Бекович. — Думано много, а сделано зело мало. Хоть и опасно сие, как долженствует признаться, однако долг меня обязывает начатое продолжать. Не выйдут политичные сговоры — пойду напрямую: увидит хан нашу силу — смирится. А не смирится — что ж: меч подъявый от оного и погибнет. К тому ж ведомо, что пушек у хана нет.
Он вдруг остановился и обвел глазами присутствующих.
— Где поручик Кожин? — спросил он.
Прошлым вечером Кожин вбежал к Матвееву в сильном волнении.
Федор, полулежа на жесткой походной кровати, перебирал струны лютни, вполголоса напевал французские амурные вирши. Взглянув на друга, Федор вскочил, отложил лютню.