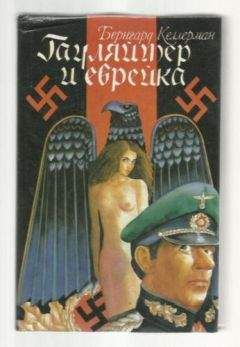Айзек Азимов - Дибук с Мазлтов-IV
Разумеется, мы знали о цифрах. Иногда, в достаточно теплые дни, мать не застегивала верхние пуговицы блузки. Когда она наклонялась, чтобы обнять или поднять нас, мы видели цифры, вытатуированные на дюйм выше ее груди.
Когда я выросла, то наслушалась жутких историй про лагеря смерти и печи крематориев, о тех, кто вырывал золотые зубы у трупов, и о женщинах, которых насиловали солдаты и охранники, вопреки законам рейха. Я стала неоднозначно относиться к матери, говоря себе, что лучше бы умерла, нашла бы способ покончить с собой, но не испытывать страшное унижение и бесчестье. Я думала о том, что пришлось пережить моей матери, какие грехи отягощают ее память, что она сделала, чтобы выжить. Старый доктор однажды сказал мне: «Лучшие из нас умерли. Самые достойные, самые чувствительные». И я благодарила Бога за то, что родилась в 1949 году и не могла быть дочерью нациста-насильника.
Когда мне исполнилось четыре года, мы переехали в старинный дом в деревне. Отец стал преподавателем в местном двухгодичном колледже, отклонив предложения из Колумбийского и Чикагского университетов, зная, что матери там будет невыносимо трудно. Вокруг дома росли дубы и вязы, а также огромная плакучая ива, отбрасывавшая печальную тень на дом. Ранней весной на наш пруд прилетали немногочисленные гуси, чтобы передохнуть перед дальней дорогой. («Можно назвать этих птиц евреями, — сказал как-то отец. — Они летят на зиму в Майами». Мы с Саймоном представляли себе, как гуси лежат на пляже, намазав перья солнцезащитной мазью, и просят официантов принести лимонад. В коктейлях с соками и джином мы тогда не разбирались.)
Даже в деревне мать время от времени собирала чемоданчик и уезжала, обычно на неделю. Она говорила, что хочет немного побыть в одиночестве. Иногда она ехала в горы, в Адирондак, где у одной из моих теток был маленький домик, а то друг отца уступал ей свою хижину. Мама всегда уезжала одна и всегда в какое-нибудь удаленное место. Отец говорил, что это все «нервы», но мы с Саймоном думали, будто мама не любит нас и таким образом дает понять, что мы — нежеланные дети. Я всегда вела себя тихо и, когда мама отдыхала, ходила на цыпочках и говорила шепотом. Саймон реагировал более бурно. Некоторое время он мог сдерживаться, но потом начинал носиться по дому и орать, отчаянно стараясь привлечь к себе внимание, а то и бросался на батареи головой вперед. Один раз он с разбегу выпрыгнул в большое окно гостиной, разбив стекло. К счастью, сам он отделался легкими порезами и ушибами, но после этого случая отец затянул окна изнутри мелкой сеткой. Происшествие потрясло мать, несколько дней она бродила вокруг дома, всем телом содрогаясь от боли, а потом уехала к тете, на сей раз — на три недели. У Саймона башка была крепкая, когда он бился о батареи, то зарабатывал лишь шишки и слабую головную боль. А маму головная боль укладывала в постель на несколько дней.
Я смотрю в бинокль из окна башни, разглядываю лес. С такого расстояния озера выглядят лужицами. Я вижу пару, приплывшую на островок в лодке. Затем отвожу бинокль, чтобы не вторгаться в их частное пространство. Я завидую юноше и девушке, которые могут свободно, не боясь последствий, выражать свои чувства друг к другу. И это изъявление чувств не приводит к разрушению личности — как была разрушена моя. Не думаю, что кто-нибудь рискнет забраться в мои горы сегодня. Небо затянуто, перисто-кучевые облака гоняются друг за другом, на западе собирается дождь. Надеюсь, никто не придет. Вчера внизу устроило пикник какое-то семейство, и они вымотали меня. У одного мальчика разболелась голова, а другой маялся желудком. Я весь день глотала аспирин и пыталась унять тяжесть в животе. Очень надеюсь, что сегодня никто не появится.
Родители не посылали нас в школу до тех пор, пока мы не вошли в возраст, когда закон уже не позволял оставаться дома. Тогда нас записали в среднюю школу в маленьком городке. Желтый автобус забирал нас из дома. Я очень боялась и была рада, что мы с Саймоном близнецы и будем учиться в одном классе. Небольшое кирпичное здание школы выстроили совсем недавно. В первом классе нас было всего пятнадцать учеников. Старшеклассники ходили в эту же школу, я их боялась, поэтому облегченно вздохнула, узнав, что их классы занимают второй этаж, а мы учились на первом. Так что мы почти не видели их, разве что когда они проводили уроки физкультуры на улице. Сидя за партой, я видела их из окна и вздрагивала всякий раз, когда в кого-нибудь попадал мяч или кто-нибудь ушибался.
К счастью, я проучилась в школе всего три месяца, после чего отец наконец-то получил разрешение учить меня дома. Но и этих трех месяцев оказалось слишком много. Три месяца постоянной боли, бури эмоций… У меня трясутся руки и выступает испарина, когда вспоминаю об этом.
Первый день я проскучала. Дома мы с братом учились читать и считать с самого раннего возраста. На уроке я прикинулась дурочкой и делала все, что велел учитель. Саймон вел себя агрессивно, показывая, что все знает. Другие дети хихикали, перешептывались, показывали на нас пальцами. Кое-что я чувствовала, но меня это не слишком отвлекало. Тогда, в тот первый день в школе, я была не такой, как сейчас.
Перемена. Дети вопят, носятся, лазают по канату, качаются на качелях, подтягиваются на турниках, играют в баскетбол. Я пошла с двумя девочками на покрытый асфальтом участок двора, мы взяли мелок, и они научили меня играть в «классики». Я очень старалась не обращать внимания на синяки и шишки других школьников.
Гром грянул на перемене в конце второй недели.
Я хочу спокойствия, я хочу держаться подальше от легко передающейся боли. Не удивительно ли, думаю я отстраненно, что в нашей жизни ненависть, боль и страдания так легко распространяются и так часто ощущаются? Любовь и удовольствие редки, они — лишь тонкая накидка, неспособная защитить меня от жестоких ударов. А под сильной любовью всегда прячутся страх, ревность и ненависть.
Я опять играла в «классики», а Саймон и еще несколько ребят пришли посмотреть, как мы это делаем. Неожиданно подошли пятеро мальчиков постарше, класса из третьего или четвертого. Они начали дразнить нас.
— Грииин-баумы, — сказали они нам.
Мы обернулись, я при этом пыталась удержать равновесие, стоя на одной ноге, а Саймон сжал кулаки.
— Эстер Грииин-баум. Саймон Грииин-баум, — повторяли они снова и снова, коверкая нашу фамилию.
— Мой отец говорит, что они жиды.
— Он говорит, что вы жиденята, — сказал один мальчик. — Эй, это жиденята!
Кто-то захихикал. Затем они начали громко повторять:
— Жиденята, жиденята!