Захар Оскотский - ПОСЛЕДНЯЯ БАШНЯ ТРОИ (журнальный вариант)
В начале своей службы я, бывало, сам выезжал с оперативной бригадой на место происшествия, чтобы взять пробы для исследований. Мы с нашим полицейским врачом Гошей Завлиным часто спорили над очередным покойником: отравление это или нет, а если отравление, то - несчастный случай или бедняге помогли. Потом меня перестали брать на выезды, пробы отбирали другие и приносили в лабораторию. А в последние годы и такой работы мне почти не доставалось: отравители в России, похоже, перевелись.
Гоша Завлин, который тоже все чаще сидел без дела, в конце концов уволился из полиции и открыл частную травматологическую клинику где-то в Приозерске. Я же никуда уйти не сумел, а на своем месте выдумывать себе занятие так и не научился, за что пользовался заслуженной нелюбовью начальства.
Итак, ни малейшего розыскного опыта я не имел, а надеяться мог только сам на себя. Формально все ведомства на всей территории Росконфедерации (в просторечии - Роскони) обязаны были оказывать мне, представителю Службы ООН, содействие. Но я прекрасно знал, что помогать мне никто не станет.
В чувствах России к Западу приливы чередуются с отливами, и только за последние полвека сменились несколько циклов. Сразу после того, как ушло со сцены Правительство национального возрождения, у нас был прилив симпатий ко всему западному. Этот прилив совпал с Контрацептивной войной, в ходе которой Россия оказалась под крылом Запада и, не воюя сама, избавилась от угрозы с Юга. Потом был отлив: мы сочли, что Запад, победив наших общих врагов, слишком зазнался. Потом - накатил новый прилив, он совпал с включением России в зону генной медицины, когда полученное бессмертие воспринималось как дар Запада и окончательное слияние с ним.
Но теперь, в середине восьмидесятых, как раз была пора очередного отлива, если не самая низшая точка. Я знал: если я предъявлю свои полномочия любому российскому чиновнику или полицейскому, те - самое большее - запросят для проверки базу данных МВД или МИД, убедятся, что перед ними не самозванец, вот и все. Интерполовцу они еще могли бы пособить, но помогать сотруднику ООН, которая давно воспринимается как символ власти Запада над миром, никто не будет. Больше того: своему, русскому, который служит западникам, постараются еще и напакостить. Беннет, как видно, это хорошо представлял, раз опасался недоразумений с российской полицией.
Противное чувство, вызывавшее пустоту в груди и холод в желудке, не оставля ло меня, и это все-таки был страх. Я знал Беннета: он мог производить впечатление болтуна, однако даром не говорил ни единого слова. И если уж он сказал, что тех двоих прикончили, значит, мне предстояло расследовать самое жестокое из всех возможных в бессмертном обществе преступлений - умышленное убийство. Да такое незаурядное, что оно получило международный резонанс и привлекло внимание нашей Службы.
Я не понимал, почему в таком случае к делу не подключили Интерпол, имевший все необходимое - базы данных, связи, агентурные сети. Однако Беннет не пожелал ответить на этот вопрос, молчание Беннета несло не меньший смысл, чем его слова, и, значит, мне суждено было работать в одиночку. А поскольку по уставу нашей Службы мы в отличие от того же Интерпола имели право действовать только открытыми методами, я с первых шагов расследования должен был оказаться на виду у неведомых мне, беспощадных преступников.
До сих пор я не то чтобы не считал себя трусом, но как-то не задумывался над проблемой собственной храбрости. А те ситуации, которые я сейчас припоминал, скорее говорили в мою пользу. Однажды, неудачно приземлившись на своем дельтаплане, я сломал ногу, да так, что от боли потерял сознание. А через месяц - уже летал снова. И хоть моя специальность - органический анализ - как будто не предполагает никакого героизма, в нашей полицейской лаборатории мне приходилось иметь дело с образцами сильнейших нервно-паралитических ядов, настолько убийственных, что невидимая капелька величиной с пылинку, случайно втянутая с дыханием или попавшая на кожу, могла вызвать мгновенную смерть. И я работал с этими жуткими веществами хотя и с необходимой осторожностью, но вполне спокойно. Работал, не испытывая не только страха, но даже волнения, отлично при этом сознавая, что любой разрыв защитной перчатки или неисправность дыхательной маски могут стоить мне жизни.
Но в том-то и дело, что в тех, прежних, испытаниях я был один, сам по себе, ни от кого не зависел. Мне угрожали только стихия и слепая случайность. Теперь же опасность была одушевленной, угроза исходила от других людей. И жизнь моя зависела от того, с какой ловкостью я вступлю в отношения с ними, с какой быстротой проникну в их психологию. А я никогда не умел ни того, ни другого. Поэтому давно уже чувствовал себя комфортно только в одиночестве. Поэтому сейчас мне было страшно.
И все-таки я знал, что не смогу отказаться от задания. Не только из-за денег, которые рисковал потерять вместе с работой в Службе. Виной всему был мой дурацкий характер. Я ни за что не согласился бы обнаружить свою неспособность - тем более слабость - перед другим человеком, хотя бы и перед Беннетом.
Что мне пригодилось бы, так это оружие. Но где его взять? Я мог только с грустью вспомнить пистолет с компьютерным прицелом, который носил в африканской командировке и там же сдал перед возвращением улыбчивому лейтенанту Уайтмэну. В мире бессмертных оружие было напрочь исключено из обихода, владение им считалось тягчайшим преступлением. За хранение какого-нибудь старого пистолета можно было схлопотать десяток лет тюрьмы. Даже охотникам в их обществах ружья выдавали только на считанные часы, в момент охоты, контролируя каждый патрон и каждый выстрел. В личном пользовании запрещалось иметь даже баллончик с шок-газом.
Немного подумав, я распахнул дверцы книжного шкафа, где на полках стояли бумажные книги, оставшиеся от деда Виталия, а в ящиках нижнего отделения хранилось кое-что из памятных мне вещей - дедовых и моих собственных. Я выдвинул один из ящиков, достал тяжелую деревянную шкатулку и поднял крышку. Там, внутри, полуутопали в зеленом войлоке поблескивающий вороненой сталью револьвер и шесть латунных патронов, углубление для седьмого патрона пустовало. Это была любимая игрушка моего детства - копия револьвера "наган", служившего когда-то в русской императорской, а потом и в советской армиях. Копия абсолютно точная - по весу, размерам, по мельчайшим подробностям, вплоть до нарезов в стволе, - но, конечно, не стреляющая.
Подобные макеты боевого оружия были в моде в самом начале нынешнего века. Дед, тогда уже немолодой, прельстился на эту, в сущности, безделушку и купил ее, потому что с таким наганом воевал во Вторую мировую его отец, мой прадед, Андрей Моисеевич Фомин. Он был артиллерийским офицером. Сначала отступал со своими гаубицами до самых предгорий Кавказа, потом долго шел на запад, до самых предместий Берлина, прокладывая огневым валом дорогу пехоте. А в блокадном Ленинграде ждала его невеста, моя прабабушка, высохшая от голода, как сухая травинка, кареглазая красавица Альфия. И дождалась, выжила, единственная из всей своей большой татарской семьи.
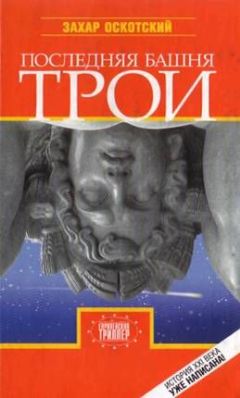
![Лев Константинов - Схватка [Журнальный вариант]](/uploads/posts/books/270148/270148.jpg)
![Лев Константинов - Схватка [Журнальный вариант]](/uploads/posts/books/270165/270165.jpg)
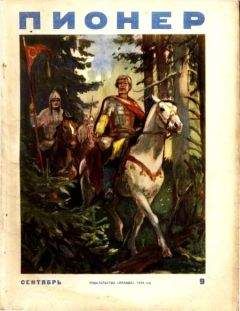
![Ольга Новикова - Каждый убивал [Журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)