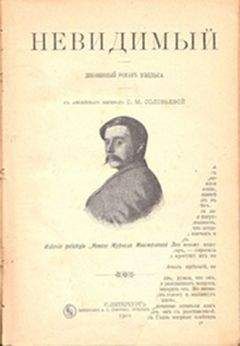Герберт Уэллс - Невидимка
Невидимый остановился и задумался. Кемп тревожно посмотрел в окно.
— Да, сказал он. Продолжайте.
XXII
В магазине
— Итак, в январе прошлого года при начинавшейся вьюге, — вьюге, которая могла меня выдать, если бы я остался под нею, усталый, озябший, больной, невыразимо несчастный и только на половину убежденный к своей невидимости, — вступил я в новую жизнь, к которой присужден теперь навеки. У меня не было пристанища, не было никаких средств и никого в целом мире, кому я мог бы доверяться. Раскрыть тайну — значило бы погубит себя: сделать себя простою редкостью и предметом любопытства. Тем не менее я уже подумывал подойти в какому-нибудь прохожему и просить о помощи. Но я слишком ясно понимал, каким ужасом и грубою жестокостью будут встречены моя слова. На улице я не составлял никаких планов будущего. Единственным моим желанием было укрыться от снега, закутаться и согреться, — тогда уже можно подумать и о будущем. Но даже для меня, невидимого человека, ряды лондонских домов стояли запертые, непроницаемые и неприступные, как крепости. Я видел ясно перед собою только одно: холод, бесприютность и муки ненастной ночи. Но тут мне пришла блестящая мысль. Я повернул в один из переулков с Гоуэр-Стрита в Тотенгам-Корт-Род и очутился рядом с «Омниумом», этим огромным заведением, где ведется торговля всевозможными товарами, — вы его знаете, — мясом, сухой провизией, бельем, мебелью, даже масляными картинами; это громадный лабиринт разнокалиберных магазинов скорее, чем один магазин. Я думал найти двери открытыми, но они были затворены. Пока я стоял, однако, на широком подъезде, к нему подкатила карета, и человек в мундире, — вы ведь их знаете, еще «Omnium» на шляпе, — отворил дверь. Я юркнул в нее, прошел первую лавку, — отделение перчаток, чулок, лент и всякой всячины в этом роде, — и очутился в более просторном помещении корзин и плетеной мебели. И тут, однако, я не чувствовал себя в безопасности: было очень людно; я с беспокойством начал шнырять всюду, пока не напал на огромное отделение в верхнем этаже, сплошь заставленное кроватями.
Кое-как протискавшись между ними, я нашел, наконец, приют на огромной груде сложенных поперек шерстяных матрацов. В магазине уже зажгли огонь, и было приятно тепло; зорко наблюдая за кучкой копошившихся тут же приказчиков и покупателей, я решил прятаться пока в своей засаде. Когда магазин запрут, думал я, можно стащить в нем и пищу и платье и все, что угодно, обойти его кругом, осмотреть все его рессурсы, пожалуй, выспаться на одной из постелей. План этот казался удовлетворительным. Я мечтал раздобыться платьем, которое бы превратило меня в укутанную, но все же приличную фигуру, достать денег, выручить свои книги, нанять где-нибудь квартиру и тогда уже приступить к планам полного применения тех преимуществ, которые, как я воображал, невидимость давала мне над моими ближними. Время запирать магазин наступило очень скоро. Не прошло и часу с тех пор, как я занял свою позицию на тюфяках, как я заметил, что шторы на окнах спускаются и покупателей выпроваживают вон. Поток целая куча очень проворных молодых людей начала с большим рвением прибирать оставшиеся разбросанными товары. Когда толпа поредела, я покинул свое логовище и осторожно прокрался в менее отдаленные части магазина, удивляясь быстроте, с которой все эти юноши и девицы смахивали товары, выставленные днем на показ. Все картонки, развешанные материи, фестоны из кружев, коробки сигар в колониальном отделении, вывешенные и выставленные для продажи предметы, — все это снималось, свертывалось, засовывалось в маленькие ящички, и то, что уже нельзя было ни снять, ни спрятать, покрывалось чехлами из какой-то грубой материи. Наконец все стулья были взгромождены на прилавки, и остались голые полы. Окончив свое дело, каждый из молодых людей спешил к дверям с выражением такого одушевления, какого я никогда прежде не видывал на лице приказчика. Затем появилась целая стая мальчишек с ведрами, щетками и опилками, которыми они и засыпали пол. Мне пришлось увертываться от них очень искусно, но все-таки опилки попали мне в ногу и разбередили ее. Бродя по завешанным и темным отделениям, я долго еще слышал звук работающих щеток, и только через час или больше после закрытия магазина стали щелкать в дверях замки. Воцарилось глубокое молчание, и я очутился один в огромном лабиринте лавок, галлерей и магазинов. Было очень тихо, — помню, как в одном месте, проходя мимо одного из выходов на Тотенгам-Род, я прислушивался к топанью каблуков проходивших мимо пешеходов. Первым долгом я посетил то отделение, где видел раньше чулки и перчатки. Было темно, и мне чертовски трудно было найти спички, оказавшиеся в маленький конторке для мелочи. Потом надо было добыть свечу. Мне пришлось стаскивать чехлы и обшаривать множество коробок и ящиков; свечи нашлись, наконец, в ящике, на ярлыке которого стояло: «Шерстяные панталоны и шерстяные фуфайки». Я добыл себе башмаки, толстый шарф, пошел в отделение платья, достал широкую куртку, панталоны, пальто и мягкую шляпу, — в роде священнической, с широкими отвернутыми книзу полями, — и начал снова чувствовать себя человеком. Следующая моя мысль была о пище. Наверху я нашел буфет, а в нем холодное мясо и оставшийся в кофейнике кофе, который тут же я и разогрел посредством зажженного мною газа. Вообще, устроился недурно. Потом, бродя по магазину в поисках за постелью (мне пришлось довольствоваться в конце концов кучей стеганых пуховых одеял) я напал на колониальное отделение со множеством шоколаду и фруктов в сахаре, которых я чуть не объелся, и несколькими бутылками бургонского. Рядом было игрушечное отделение, подавшее мне блестящую мысль; там я нашел картонные носы, — игрушечные носы, знаете, — и мне пришли в голову темные очки. Но у «Омниума» нет оптического отделения. Нос мой представлялся до сих пор вопросом крайне затруднительным, и я подумывал уже о краске; но сделанное мною открытие навело меня на мысль о шарике, маске или чем-нибудь в этом роде. Наконец, я заснул на куче пуховых одеял, где было тепло и уютно. Еще ни разу, со времени моего превращения, не было у меня таких приятных мыслей, как теперь, перед сном. Я был в состоянии физической безмятежности, отражавшейся на моем настроении. Утром, думалось мне, можно будет незаметно выбраться из магазина в моем теперешнем наряде, обернув лицо добытым мною тут же белым шарфом, купить на украденные деньги очки и довершить, таким образом, свой маскарадный костюм. Потом мне стали в беспорядке чудиться все случившиеся за последние дни фантастические происшествия. Я видел уродливого маленького жида-хозяина, орущего в своей квартире, его недоумевающих сыновей, корявое лицо старухи, справлявшейся о кошке. Я вновь испытывал странное впечатление исчезновения суконной тряпки; наконец, пришел я и к пригорку на ветру, к старому священнику, шамкавшему: «Ты еси земля и в землю обратишься» — над открытой могилой моего отца. «И ты тоже», — сказал какой-то голос, и меня потащило к могиле. Я сопротивлялся, кричал, взывал о помощи ко всем присутствующим, но они, как каменные, продолжали следить за службой, старый священник тоже ни разу не запнулся, продолжая читать однообразно и сипло. Я понял, что никто меня не видит и не слышит, что я во власти каких-то неведомых сил; сопротивлялся, — но напрасно; и стремглав полетел в могилу; гроб глухо загудел подо мною и сверху полетели на меня пригоршни носку. Никто не замечал меня, никто не знал о моем существовании. Я забился к судорогах и проснулся. Бледная лондонская заря уже взошла, и комната была наполнена холодным серым светом, струившимся сквозь щели штор. Я сел и не мог сначала понять, что значила эта огромная зала с прилавками, кучами свернутых материй, грудой одеял и подушек, и железными подпорками. Потом память вернулась ко мне, и я услышал говор. Вдали, в более ярком свете уже поднявшего свои шторы отделения, показались два шедшие ко мне человека. Я вскочил, отыскивая глазами, куда бежать, но самое это движение выдало им мое присутствие. Вероятно, они увидали только беззвучно и быстро уходившую фигуру. «Кто это?» крикнул один. «Стой!» крикнул другой. Я бросился за угол, — безлицая фигура, не забудьте, — и прямо наткнулся на тощаго пятнадцатилетнего парнишку. Он заревел во все горло; я сшиб его с ног, перескочил через него, обогнул другой угол и, по счастливому вдохновению, бросился плашмя за прилавок. Кто минута — и я услышал шаги и крики: «Держите двери, держите двери!», вопросы: «Что такое?» и совещания, том, как поймать меня. И лежал на полу, испуганный до полусмерти, но, как это ни странно, мне не приходило в голову раздеться, что было бы всего проще. Я заранее решил уйти в платье, и это-то, вероятно, и руководило мною бессознательно. Затем по длинной перспективе прилавков раздался рев: «Вот он!» Я вскочил, схватил с прилавка стул и швырнул им в закричавшего дурака, обернулся, наткнулся за углом на другого дал ему затрещину и бросился вверх по лестнице. Он устоял на ногах, зауськал, как на охоте и полетел за мною. По лестнице были нагромождены кучи этих пестрых расписных посудин… как бишь их!..