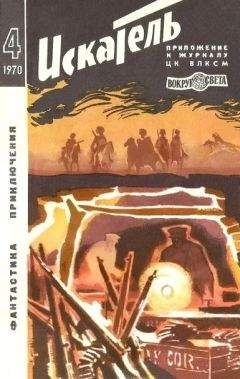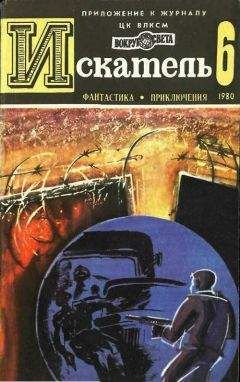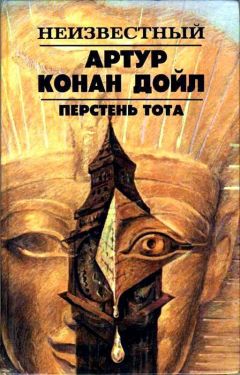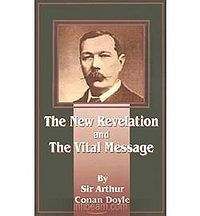Артур Дойль - Ужасы воздуха
К полудню, когда я достиг высоты 19,000 фут, ветер до того усилился, что я ежеминутно боялся, как бы ни сломались крылья. И даже развязал на всякий случай парашют и зацепил его крючком за кольцо на моем кожаном поясе, чтоб быть готовым к худшему. В такой момент за каждую оплошность можно поплатиться жизнью. Но мой аппарат держался молодцом; он весь гудел, как струны арфы, но я оставался победителем Природы. Вот и говорите после этого о вырождении. Разве в старину люди так рисковали своею жизнью?..
Вот о чем я думал, карабкаясь по гигантской наклонной плоскости, между тем, как ветер то хлестал меня в лицо, то свистал сзади, а облака внизу слились в одну плоскую блестящую равнину. Казалось, все шло гладко. Но вдруг — вихрь подхватил меня и закружил. Я очутился в самом центре так называемого турбильона. Минуты две аппарат вертело с такой быстротой, что у меня голова шла кругом, затем потянуло вниз, левым крылом вперед, так неожиданно, что я камнем полетел вниз и потерял сразу тысячу футов. Если б не пояс, ни за что бы мне не удержаться. Я едва не лишился чувств. Но я всегда умел владеть собой — для летчика это страшно важно. И немного погодя я заметил, что спускаюсь медленнее. Это был скорее конус, чем обычная воронка, и я добрался до вершины. Страшным усилием, весь перегнувшись на бок, я выпрямил поддерживающие поверхности, выбрался из турбильона, пролетел немного по ветру и затем, снова начал подниматься, описывая большой круг, что бы не попасть опять в воронку. К часу я был уже на высоте 21,000 фут над уровнем моря. К великой моей радости, с каждой сотней футов ветер стихал. Но зато становилось все холоднее, и я ощущал особого рода тошноту, вызываемую разреженностью воздуха. Впервые я прибег к помощи кислорода. Живительный газ мгновенно разлился по жилам, как вино; я словно опьянел и развеселился до того, что начал кричать и петь от радости.
Мне было ясно, что если подниматься медленно, размеренно, постепенно привыкая к уменьшению барометрического давления, можно ослабить все тягостные симптомы и дышать здесь даже и без кислорода. Те авиаторы, которые на этой высоте окоченели, до меня — Глешер и Коксвелль, очевидно, поднимались слишком быстро. Зато холодно здесь адски: мой термометр показывал 0 по Фаренгейту. При этом разреженный воздух давал меньше поддержки опорным плоскостям, и угол подъема постепенно понижался. В половине второго я был на высоте семи миль над землей, но очевидно было, что даже при моем легком весе и сильном двигателе, мой подъем скоро придет к концу. Вдобавок, мотор что-то подозрительно трещал, и в нем поминутно вспыхивали искры. На сердце у меня было тяжело от предчувствие неудачи.
Как раз в этот момент со мной случилось что-то необычное. Что-то со свистом пронеслось мимо меня, словно дымок, и лопнуло, с громким шипеньем, выбросив облако пара. В первый момент я не мог сообразить, что это. Потом вспомнил, что землю постоянно бомбардируют метеоры, она стала бы совсем необитаемой, если бы почти все они не превращались в пар в верхних слоях атмосферы. Когда я приближался к сороковой тысяче, мимо меня пронеслись еще два таких же. Будь это ближе к земле, от меня, пожалуй, ничего бы не осталось. Вот еще новая опасность для авиатора.
Игла моего барографа показывала 41,300 футов, когда я убедился, что подняться выше не могу. Физическое напряжение я еще мог перенести, но машина моя дошла до предела. Воздух не давал прочной опоры крыльям, два цилиндра перестали работать… Если б я уже не достиг зоны, к которой стремился, я в этот день наверно бы уже не достиг ее. Но ведь она достигнута… Паря кругами на высоте 40,000 фут, я предоставил свободу моему воздушному коню и в бинокль внимательно осмотрел все вокруг. Небо было ясно; никаких ужасов, предполагаемых мною, не замечалось.
Я подумал: не расширить ли мне круги парения? Ведь охотник не кружится на одном месте, когда ищет дичь. Направление я более или менее установил по солнцу — от компаса пользы было мало, а земли не видно — и направил свой аэроплан к намеченному пункту. Я видел, что бензину у меня хватить самое большее на два часа, но это меня не пугало — один планирующий спуск мог в любой момент перенести меня на землю.
Внезапно я заметил что-то новое. Воздух впереди меня утратил свою кристальную прозрачность; в нем потянулись какие-то длинные мохнатые волокна, как будто струйки дыма от тонкой папироски. Они висели гирляндами и кольцами, поворачиваясь и переплетаясь в лучах солнца. Пробираясь сквозь них, я чувствовал на губах слабый маслянистый вкус, а на деревянных частях аппарата осела как будто жирная пена. По-видимому, в атмосфере плавало какое-то бесконечно тонкое органическое вещество. Это не жизнь — но, может быть, отбросы жизни. Или пища для живых существ, для воздушных чудовищ — как скромная морская протоплазма служит пищей для огромного кита. Раздумывая об этом, я поднял глаза и увидал дивное зрелище. Сумею ли я описать его?
Представьте себе голотурию, как водятся в южных морях, в форме колокола и огромнейшей величины — гораздо больше купола на соборе св. Павла. Колокол был светло-розового цвета с нежно-зелеными отливами и так прозрачен, что только очертание его обрисовывались на темно-синем фоне неба. Он весь пульсировал, слабо, но ритмически: от него свешивались вниз два длинных зеленых щупальца, медленно раскачивавшихся взад и вперед. Прелестное видение бесшумно проплыло над моей головой, легкое и хрупкое, как мыльный пузырь.
Я чуть не опрокинул моноплана, усиливаясь получше разглядеть его, но вдруг очутился среди целого флота таких же воздушных тюльпанов, всех размеров, но не таких больших, как первый. Некоторые были даже совсем маленькие, но большая часть величиной с обыкновенный воздушный шар. Нежностью ткани и окраски они напоминали тончайшее венецианское стекло. И все на солнце отливали радугой. Несколько сотен их проплыло мимо меня.
Но скоро внимание мое было отвлечено другим. В воздухе носились, быстро свертываясь, свиваясь и переплетаясь, длинные, тонкие, фантастические кольца будто пара, кружась с такою быстротой, что трудно было уследить за ними глазом. Некоторые из этих воздушных змей были длиною в 20–30 футов, но объем их определить трудно, так как внешние очертание их расплывались. Цвет их был светло-серый, или дымчатый, но более темные линии внутри производили впечатление живого организма. Одна из них коснулась моего лица; я ощутил холодное липкое прикосновение, но такое нематерияльное, что я не мог связать с ним мысли о физической опасности, точно так же, как и с радужными тюльпанами, которые видел раньше. Они были так же прозрачны и легки, как пена на гребнях валов.