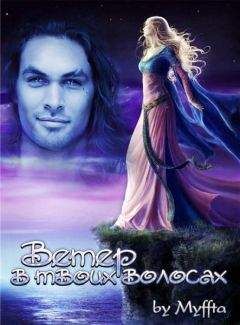Елена Грушко - Венки Обимура
Егор снова припал к трубке:
— Наташа. Успокойся. Какая пленка стоит в мнемографе?
— Там две! — послышался плачущий голос.
— Как две?
— Пленки Антонова и Дубова.
— Дубова?! Почему Дубова? Голавлева, наверное!
Наташа замолчала. Наверное, проверяла мнемограф.
— Дубова! А пленки Голавлева в шкафу вообще нет.
И Егору все стало ясно. Голавлев решил, что в мнемографе по-прежнему стоит его запись. Он сунул туда и ленту Дубова — кстати, почему? просто из злобы на Егора или сговорившись с Дубовым? неужто и эта пленка ему вредна? — и перевел стрелку мнемографа на шкалу уничтожения записи. Откуда ему было знать, что его собственная пленка лежит в столе у Егора!
Ох… не расшифровал… теперь не узнать, что видел «во сне» Михаил Афанасьевич. Хотя… Егор вспомнил, что однажды по небрежности уже попадал в такую ситуацию. Когда в мнемографе оказываются одновременно две пленки, обе записи совмещаются на одной из лент. Да, путаница, да, смешаются воспоминания Антонова и Дубова, но, может быть, Егор кое-что поймет? Пленка Антонова сделана позднее — она пострадает меньше. Надо только сутки выдержать ее в специальном растворе. Сутки, а Изгнаннику осталось трое. Вернее, уже двое — сегодняшний день истек. Успеет удовлетворить свое чисто человеческое любопытство!
Стало немного легче. А потом Егору вообразилось лицо Голавлева, когда тот узнает, что пленка с его записью цела и невредима… и он почти спокойно начал утешать Наташу, а заодно и Никифорова.
3
В сентябре Обимур серебрится, будто чешуя огромной рыбины, будто живой. Бежит по нему мелкая рябь, и волна его крупная колышет, смотря какой и откуда ветер дует. Хмурится осеннее небо — и река хмурится, а когда глянет солнце из-за туч, то засияют на воде золотые пятна, словно взоры ясные Обимура. Тогда чудится, что и не уходило лето красное: стоит истомное, сладостное тепло, и доспевают яблоки под стенами старого монастыря, и сверкает его поблекший купол, освящая этим блеском воды великого Обимура.
В один из первосентябрьских дней 1918 года командование конно-артиллерийского полка, расквартированного в Лаврентьевке, что скособочилась на бугре верстах в трех от монастыря, было взбудоражено слухом, что белые, спешно отступая, скрыли изрядное количество боезапаса и провианта в монастырских подвалах. Слух оказался заманчив. Победив мгновенное шальное желание брать монастырь приступом, командир узнал, что штурмовать, кроме старика священника, некого: братия разбежалась. Слыл игумен человеком разумным и сговорчивым, а коли так, не проще ли обойтись без ненужного шума?
Придя к такому решению, комполка послал в монастырь командира разведроты Дмитрия Дубова, геройского да отважного рубаку. Дубов взял с собой ушлого наводчика третьей роты Еремея Голавля, от которого и пошел слух насчет оружия, а откуда тот проведал, осталось тайной. Еще с Дубовым поскакал ординарец его, Ванюшка.
Дмитрий, хоть и наказывал ему комполка быть со святым отцом пообходительнее, никаких таких тонкостей не признавал: маузер попу в зубы — и давай ключи от подвалов, решил он. Вступить в монастырь Дубов думал, чеканя шаг и оружьем на солнце сверкая, однако же дернуло его в монастырском саду, плодами изобильном, потянуться за яблочком. Переспелое яблоко упало в траву, командир сунулся туда, но из травы выметнулась плоская желто-зеленая головка и цапнула Дубова повыше кисти ядовитым зубом…
Еремей Голавль всадил в траву целую обойму, мстя за своего командира, а Ваня-ординарец подхватил пошатнувшегося Дубова и на руках, словно ребенка малого, доставил под его монастырские своды, громко взывая о помощи.
На крик явились двое: статный серобородый монах с наперсным крестом — и еще какой-то человек, в крестьянской одежде, долговязый да худой, с тоскливым взором светлых глаз. Поначалу Ванюшке показалось, будто этот нестарый еще мужик тоже сед, однако тут же разглядел он, что просто у того совсем белые волосы.
Оба сразу поняли, что приключилось. Не успел Ванюша слова молвить, как чернорясник уже помогал ему усадить Дмитрия в просторные кресла, а крестьянин разорвал рукав гимнастерки командира, обнажил покрасневшую, вспухшую руку и у плеча туго-натуго перетянул ее, закрутив узел палочкой. Потом что-то сказал монаху, тот проворно отлучился и вернулся с острым ножом, толстостенным стаканом и охапкой чистой ветоши. Беловолосый раскалил на свечах нож, рассек ранку, оставленную ядовитой гадиной. Хлынула кровь, и на это место он пристроил стакан, который сперва обжег изнутри. Стакан наполнился темной командирской кровью, высосав ее из раны. Опухоль опала. Монах подал кувшин, из которого поднимался пар. Беловолосый вытащил из-за пазухи мешочек с сухими травами, вытряс его в кувшин, размешал и негромким, мягким голосом забормотал что-то. Запах распаренных трав дурманил голову, да и слова были дурманными, диковинными:
— Змея Медяница! Зачем ты, всем змеям старшая и большая, делаешь такие изъяны, кусаешь добрых людей? Собери ты своих теток и дядьев, сестер и братьев, всех родных и чужих, вынь свое жало из греховного тела у раба Божия… имя? — отрывисто спросил он Ваню.
— Чье? — испугался тот.
— Уязвленного.
Не сразу сообразил Ванюша:
— А… Дмитрий Никитич. Только он никакой не раб Божий, а геройский красный командир.
Тихо вздохнул монах, а Белый продолжил бормотание свое:
— …Вынь жало из греховного тела у раба Божия Димитрия. А если ты не вынешь своего жала, то нашлю на тебя грозную тучу, каменьем побьет, молнией пожрет тебя. От грозной тучи нигде не укроешься, ни под землею, ни под межою, ни в поле, ни под колодою, ни в траве, ни в сырых борах, ни в темных лесах, ни в оврагах, ни в ямах, ни в дубах, ни в норах. Сниму я с тебя двенадцать шкур, сожгу-спалю тебя, развею по чисту полю. Или возьму я два ножа булатные, отрежу у змеи Медяницы жало, положу в три сундука железные, запру в два замка. Замок земной, ключ небесный. С этого часу-получасу да будет бездыханна всякая гадюка, да превратятся ужаления ее в неужаления! А вы, змеи и змеицы, ужи и ужицы, медяницы и сарачицы, бегите прочь от раба Божия Дмитрия по сей час. Слово мое крепко, не пройдет ни в век, ни во век!..
Встряхнулся Ванюша, увидев, что лицо командира порозовело, открыл он глаза и, поддерживаемый Белым, начал пить из кувшина. Долго пил. А когда кувшин опустел, от укуса и следа не осталось.
— Эк меня угораздило, — пробормотал Дмитрий, с опаской оглядывая руку.
— Нынче же Корнильев день, — пояснил Белый. — С этого дня начиная, змеи и все гады другие перебираются с полей в трущобы лесные, где и уходят в землю для весеннего пригреву. Одна, видать, запоздала, да тебя и цапнула. На счастье, быстро подмога приспела…