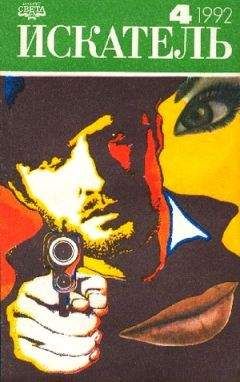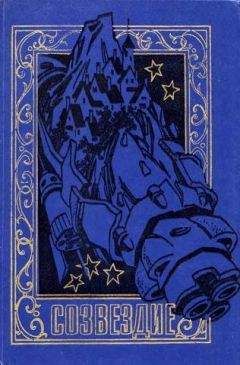Роберт Силверберг - На дальних мирах (сборник)
Эллен целует его в горячий лоб.
— Пойми, это сделано, чтобы примирить тебя с человечеством. Ты был ужасно возмущен изгнанием своего народа в девятнадцатом веке. Ты не мог простить индустриальному обществу изгнание сиу и был полон ненависти. Твой врач решил, что если ты примешь воображаемое участие в современной ликвидации, если увидишь в ней необходимую меру, то очистишься от своего возмущения и сможешь занять место в обществе…
Том отталкивает ее.
— Не говори ерунды! Если бы ты имела представление о восстановительной терапии, то знала бы, что ни один стоящий врач не может быть так ограничен. При восстановлении нет полной корреляции. Не прикасайся ко мне. Оставь меня. Оставь!
Он не даст им убедить себя, что у него наркотический бред. Это не фантазия, говорит он, и не курс лечения. Поднимается и уходит. За ним — никого. Он садится в коптер и летит искать своих братьев.
Я снова пляшу. Сегодня солнце намного жарче. Поедателей гораздо больше. Сегодня я раскрашен и убран перьями. Мое тело блестит от пота. Поедатели пляшут вместе со мной, охваченные таким неистовством, какого я раньше не видел. Мы топчем ногами утрамбованную лужайку. Тянемся руками к солнцу. Поем, кричим, вопим. Мы будем плясать, пока не свалимся.
Это не фантазия. Эти существа реальны, они разумны, они обречены. Я это знаю.
Мы пляшем. Пляшем, несмотря на обреченность.
Появляется мой прадед и пляшет с нами. Он тоже реален. Нос у него орлиный, а не плоский, как у меня, на голове большой убор из перьев, мышцы под смуглой кожей напоминают канаты. Он поет, кричит, вопит.
К нам присоединяются и другие мои предки.
Мы едим оксигенаторы. Обнимаем поедателей. Мы все знаем, что такое быть дичью.
Облака издают музыку, ветер обретает текстуру, а солнечное тепло — цвет.
Мы пляшем. Пляшем. Наши руки и ноги не знают усталости.
Солнце разрастается, заполняет собой все небо, и я уже не вижу поедателей, вокруг только мои предки за много веков, тысячи блестящих тел, тысячи орлиных носов, мы едим оксигенаторы, находим острые шипы и вонзаем себе в плоть, нежно пахнущая кровь течет и засыхает под лучами солнца, а мы пляшем и пляшем, прерия представляет собой море качающихся головных уборов, океан перьев, мы пляшем, сердце мое грохочет, колени расслабляются, солнечный огонь заливает меня, я пляшу и падаю, пляшу и падаю, падаю, падаю.
Тебя снова находят и привозят обратно. Делают холодный укол в руку, чтобы изгнать из крови кислородное опьянение, а потом впрыскивают что-то успокаивающее. Ты неподвижен и очень спокоен. Эллен целует тебя, ты гладишь ее нежную кожу, потом и остальные подходят поговорить с тобой, утешить тебя, но ты не слушаешь, потому что ищешь реальности. Это нелегкий поиск. Словно бы проваливаешься через множество люков в поисках той единственной комнаты, где пол не на петлях. Все, что происходит на этой планете, — твое лечение, говоришь ты себе, оно предназначено примирить озлобленного аборигена с завоеваниями белого человека; в действительности здесь никого не уничтожают. Ты отрицаешь это, проваливаешься и понимаешь, что это, должно быть, лечение твоих друзей; они несут бремя многовековой вины и прилетели сюда избавиться от него, а твоя задача — взять на себя их грехи и даровать прощение. Снова проваливаешься и понимаешь, что поедатели просто животные, они угрожают экологическому равновесию и должны быть уничтожены; их культура вымышлена тобой, это просто галлюцинация, возбужденная давними воспоминаниями. Пытаешься отвергнуть свои возражения против этой необходимости, но проваливаешься снова, сознавая, что никакой ликвидации нет, она существует лишь в твоем мозгу, возбужденном и расстроенном преступлением против твоих предков, приподнимаешься и садишься, хочешь принести извинения своим друзьям — ведь ты назвал убийцами этих ни в чем не повинных ученых, и проваливаешься…
ТАЛАНТ
[7] Перевод Д. Вознякевича
Эмиль Вилар не расставался с вырезанной из газеты небольшой рецензией на свой первый и единственный сборник стихов. Прилетев на новую планету, он достал вырезку и перечел в десятитысячный раз.
Бумага пожелтела от времени, буквы начали стираться, но это не имело значения; слова навсегда запечатлелись в его мозгу.
«Эмиль Вилар понимает мир, как мало кто из поэтов, — гласила рецензия. — К сожалению, мир никогда не поймет Вилара. Талант поэта слишком велик».
Прочтя рецензию впервые, Вилар покраснел; в глубине души он сознавал ее справедливость, но не смел признаться в этом себе и отверг чужой приговор.
Он старался быть понятым. И писал, добиваясь понимания, еще двадцать лет. Но в конце концов признал правоту неизвестного рецензента — и навсегда покинул Землю.
Оторвав взгляд от газетной вырезки, Вилар осмотрел ландшафт своей новой планеты. Выбрал он ее наобум из толстого каталога в библиотеке. Ему было все равно где жить — лишь бы не на Земле.
— Ригель Семь, — громко произнес Вилар. Так называлась планета, на которую он прилетел. Непривычное словосочетание, представляющее звучную стопу анапеста, ласкало слух.
Теперь, по прибытии на место, он слегка жалел, что выбрал терраформированную планету. Требования его с самого начала были четко определены: жить на планете, как можно более похожей на Землю и как можно более удаленной от Земли, где в безвестности и покое он мог бы творить без помех, где никто не будет досаждать непониманием его стихов, язвить по поводу возведения башни из слоновой кости или упрекать в художнической безответственности и осыпать другими, уже слышанными обвинениями, потому что он твердо решил писать для себя и только для себя.
Земля не понимала его. Земле хотелось, чтобы он был стихоплетом, а не поэтом — и потому Эмиль Вилар без сожаления покинул Землю. Новым домом он избрал терраформированную планету. Но, увидев отлогие склоны зеленых холмов, привычные белые облака в нежно-голубом небе, понял, что совершил одну из редких ошибок. «Насколько мое воображение стало бы богаче, — грустно думал он, — выбери я чуждую планету, еще не превращенную в копию Земли. Здесь то же небо, те же облачка, что и на Земле; только солнце другое».
Что ж, раз прилетел сюда, тут и оставаться. Вилар аккуратно сложил вырезку и сунул в бумажник. Ригель Семь ничуть не хуже любой другой планеты, а любая другая — лучше Земли.
На Земле в бюро путешествий робот с ухмылкой на зеркальном лице сказал ему, что он первый эмигрант на Ригель Семь за восемьсот с лишним лет. И это тоже было ему на руку.
Планету более тысячи лет назад заселили шестнадцать семей богатых землян; они совместно приобрели ее в частное владение. В условиях продажи, разумеется, оговаривалось, что планета будет открыта для всех эмигрантов, но риска тут никакого не было. Небо полно звезд, у каждой звезды скопление планет. Кто полетит за пятьсот парсеков на Ригель Семь, когда Сириус, Вега, Процион и созвездие Центавра манят к себе всего несколькими парсеками от Земли?