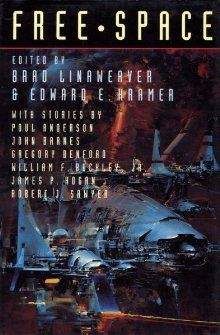Вадим Бабенко - Семмант
Я вновь услышал о нем несколько лет назад. Оказалось, наш Тео тоже начинал в теорфизике, и, по-моему, еще успешней, чем я. После университета он получил предложение из Гейдельберга, небывалое по заманчивости. Это был вопиющий случай, но Теофанус, согласившись было, так и не объявился в веселом немецком городке. Там его ждали странные люди с просветленными лицами, каждый со своим собственным уродством. Недоразвитые подбородки, выступающие скулы, огромные лбы… Внешность отпетых гениев зачастую ставит в тупик физиономистов. Стеснительные и тихие, неловкие, не знающие, куда деть руки, они изнывали от нетерпения. Им хотелось поскорее принять Теофануса в свой узкий замкнутый круг. Их угрюмая дружба ожидала его, а с ней наряду – тихое пуританство, как тихое пьянство, бесцветные женщины и пиршество мысли. Тождественные преобразования, мезоны и барионы, тау-нейтрино и очарованные кварки ожидали его, готовые покориться. Наверное, в отличие от меня, он думал о них со страстью. Не смотрел в сторону, не интересовался ничем другим. Но судьбе не может перечить никакая страсть.
Ярость доказательства, взлелеянная в отрочестве, толкала его в другую сторону. Из сытой Германии Теофанус, все бросив, улетел к Экватору с юной красоткой-метиской. Он торговал оружием и змеиным ядом, ходил пешком через джунгли, тонул в болотах Гондураса, дважды избежал мексиканской тюрьмы. Последний раз его видели в Боливии, потом он исчез – но, думаю, не навсегда.
Навсегда – еще рановато, хоть, конечно, предел уже близок. Ярость доказательства не позволит остановиться. Нужно будет перейти за черту…
Наверное, когда все кончится, наши души обменяются потоками частиц – тех, с которыми, по разным причинам, мы так и не связали свои жизни. Возможно, я при этом испытаю болевой шок. Неплохо бы нам встретиться до того. Мы можем поговорить об очарованных кварках, неуловимых бозонах и целочисленных спинах. Где-нибудь в пустыне или у жерла вулкана. Это было бы верно – у жерла вулкана. Так я и написал Семманту.
Я сегодня встречался с одним человеком.
Мы кружили по терракоте большой горы.
Серпантин дороги, усмирившей вулкан,
возносил нас выше и выше, но я-то чуял
всю зловещую мощь его непокорных недр,
неприятье покоя, приближенье развязки.
Он сказал: передышка кажется лишней,
если, даже падая с ног, никому не слышен.
И еще добавил: считаю, у них был шанс.
О, конечно, конечно! – согласился я с ним…
Интересно, понял ли он, Семмант, что я лишь фантазирую, почти впустую? Если и понял, то не подал вида. Он тактичен, мой робот. Тактичен и хорошо воспитан.
Вообще, после Гелы, подсмотренной у Тулуз-Лотрека, я перестал стесняться. Я писал почти обо всех – исключая лишь единиц, что были совсем уж неинтересны. Я рассказал даже о Маккейне, о котором не хотелось и думать, но которого я углядел-таки случайно – на холсте Дюрера, среди докторов, беседующих с Иисусом. Он скрывался на заднем плане, прятался можно сказать, да и то: какой из него доктор, он не мог им быть. Блеск фальшивых склянок и мертвая латынь были ему ни к чему. Грег Маккейн, «старина Мак», он имел отношение к вещам посерьезнее. На картине он был как живой – большой череп, острые глаза, круглое мясистое лицо…
Он забирал у нас больше, чем отдавал, впитывал, как ненасытная губка, наш задор, нашу юность, непосредственность мысли. Я знаю, это был его секрет – секрет омоложения, тайный метод вампира. Всем его любовницам было меньше двадцати трех – он сам рассказывал и вряд ли врал. Ему платили большие деньги, но, думаю, зря – в Пансионе он работал бы и бесплатно. Он был богат, Маккейн, имел красивый дом, земли, конюшни. Это на его ферме – с горечью отчуждения и в последний раз – я увидел Малышку Соню в образе амазонки. От нее он вряд ли многое получил – Соня не любила делиться. Она и сама была тот еще вампир.
Ты хозяйка большой реки – до горько-соленой
линии горизонта, за которой забвенье.
Твой настойчивый запах – пыль волны, что везде:
в легких, в гортани, на языке, в глазницах.
Я сегодня встречался с одним человеком.
Он, наверное, бредит тобой, как прежде.
Он пока не болен – он лишь взорвал свой дом
и смеялся в развалины, повторяя: Остров!
Слово – в легких, в гортани, на языке.
Ты хозяйка большой воды, я заморский гость,
что давно научился не выпрашивать ласки.
Я сегодня встречался с одним человеком.
Он почти здоров, он лишь сжег корабли.
Сполохи мертвой зыбью трепетали у ног.
Он глядел и видел все буквы: Остров!
И так дальше – еще и еще. То письмо вышло необычайно длинным – не уверен даже, что у Семманта хватило терпения дочитать до конца. Но не стоит думать, что это я со зла. Что это было что-то вроде мести – нет, мстителен я не. И даже не злопамятен – почти. Я напоминал себе каждую минуту: ты моложе его на тридцать лет! Так не думай о нем, остановись, забудь!..
Впрочем, в строки все же проникла желчь. И мироздание отомстило мне – жестким напоминанием. Сразу после Маккейна, буквально через день-два, я «встретил» желаннейшую из женщин, что не достанется никому – ибо доступна каждому, это ее выбор. Диана, купающаяся у ручья на холсте Коро, была точной копией другой Дианы, развратницы, нимфоманки, о которой по Манчестеру ходили легенды. Я тоже не избежал ее постели. Это было восхитительно, а потом я страдал.
Сейчас я вновь увидел на холсте: щедрость ее тела была куда больше щедрости ручья. Щедрости воды, падающей сверху, густой травы, загадочного леса… Я мог бы сказать, что она напомнила мне Лидию, но это было бы слишком, Лидию я тогда еще не знал. Тем не менее, я солгал, хоть и по-другому. Я написал тем вечером не про Диану, а про парижанку Эмму – натурщицу Эмму, известную тем, что не могла выстоять и минуты, замерев в одной позе. Она была порывиста и не знала покоя, но было в ней что-то, что так и просилось на холст. Хороша натурщица, скажете вы. Да, ее любили далеко не все, и она сама отказывала многим. Не она ли, не с ней ли?.. Сколько полотен осталось в веках – наэлектризованных ее дрожью, заряженных сладострастием, отравленных искусом? Я ответил себе сам и придумал все – и что знал ее когда-то, и нашу встречу, и нашу связь. Впрочем, связь – невнятно, не до конца.
Сомневаюсь, что Семмант поверил. Но он откликнулся – как всегда. В чем, в чем, а в безразличии его теперь нельзя было упрекнуть. Меня не покидало ощущение: мы чувствуем один другого как никто. Когда я задумывался об этом, мне даже становилось не по себе – от сложности происходящего внутри его электронной начинки. Оставалось лишь наблюдать извне – как мой робот становится все отзывчивее и тоньше. Теперь уже не верилось, что толчком к этому стали два моих неловких стихотворения. Впрочем, может я переоцениваю их роль.