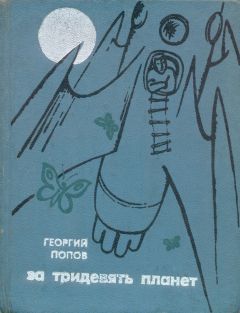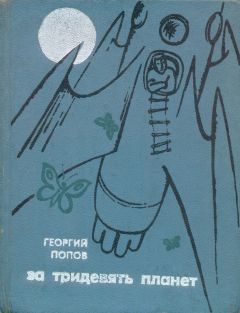Георгий Попов - За тридевять планет
Мне это удалось в полной мере.
— Ладно уж, простим ради праздника, — смилостивилась тетка Соня. Немного погодя, глядя на огурчики и помидорчики, а также на дыню, похожую на трехмесячного поросенка, она добавила: — В другой раз никуда не поедешь, Эдя, хватит. А то эти курорты тебе совсем задурят голову.
Я сказал, что хорошо, не поеду, и осторожненько поинтересовался, какой праздник она имеет в виду.
— Праздник дождя, какой же еще! Я и забыла, что ты еще не знаешь… А это… — Она сложила лишние огурчики и помидорчики опять в корзину и передала Пелагее. — А это отнеси в столовую, Настеньке. Авось пригодятся.
— Отнесу, что уж! — с готовностью подхватила корзину расторопная Пелагея.
— Да Ивану Павлычу пусть не говорит.
— А что говорить? Тут и говорить нечего! — Пелагея зашагала к выходу.
«Иван Павлыч… И здесь Иван Павлыч», — подумал я.
Тетка Соня приготовила салат, подала хлеб, я уселся за столом поудобнее и уничтожил все это одним духом — хозяйка и глазом не успела моргнуть Замечу кстати, что огурчики и помидорчики на вкус такие же, как и у нас на Земле, только разве сочнее и душистее, так сказать, ароматнее, хлеб тоже как нашенский, свежий, а вот растительное масло заметно отличается. Оно не похоже на конопляное, подсолнечное, льняное, оливковое, кедровое или, скажем, хлопковое, — я думал, может, какое импортное, из какого-нибудь неизвестного науке семени, однако спросить не решился.
VI
В этот день я никуда больше не ходил. После завтрака прилег на диване и вздремнул малость — минут тридцать, от силы сорок, — и увидел приятный сон. Будто я дома, то есть у себя на Земле, сижу в РТМ среди ребят, а Шишкин что-то говорит, говорит, кажется, о том, есть ли жизнь на других планетах, и подмигивает мне одним глазом.
Потом я встал, размялся, бродя по двору. Когда по улице проходил кто-нибудь — знакомый или незнакомый, все равно, — я непринужденно здоровался. Мне отвечали таким же непринужденным кивком головы или взмахом руки.
Потом я опять вернулся в комнату-боковушку и стал продолжать эти записки.
За столом я просидел часа два (здесь быстро летит время) и сидел бы, наверно, дольше, если бы не воротилась тетка Соня. Войдя в избу, она помахала каким-то конвертом и сердито, почти негодующе сказала: — Руки бы этим почтарям оторвать!
Я не знал, за что почтарям надо оторвать руки, и вылез из-за стола, ожидая, что будет дальше.
— Видал? Твое письмо! Отправлено вчера, а вручили только сегодня, это ж надо! — И старуха, надорвав один край, извлекла из конверта голубоватый листок, исписанный довольно убористым почерком.
«Вот оно что!» — подумал я.
Признаться, я все еще никак не мог представить здешнего Эдьку Свистуна, даже не мог всерьез подумать о том, что он есть на самом деле и ходит по земле (по этой, здешней земле, разумеется) — настолько все было невероятным, почти фантастичным. А оказывается, он все-таки есть, существует, и существует не в моем воображении, а на самом деле, и пишет письма. Может быть, именно в то время, когда я делал первые шаги по этой планете, он выкупался в море и, вернувшись к себе в палату, взял этот листок бумаги и усеял его бисерными буковками.
— Ну-ну, посмотрим, что ты пишешь! — сказала тетка Соня, усаживаясь на диване.
Я стоял и ждал… Ждал, на всякий случай прикидывая, где окна, а где дверь, и в какой стороне находится мой корабль.
— «Дорогая тетя Соня! — начала старуха, ехидно посмеиваясь. — Рад сообщить тебе, что здесь гораздо лучше, чем мы думали. Помнишь, ты опасалась, что я помру со скуки. Ничего подобного! Море достаточно соленое купайся сколько влезет, обслуживающий персонал в меру груб — успевай огрызаться, француженки и англичанки… — В этом месте тетка Соня сделала паузу, укоризненно покачала головой, сказала: „Ты неисправим, Эдя!“ — и тем же однообразным, как бы заученным тоном продолжала: — …француженки и англичанки так и виснут на шею, я не знаю, что и делать, в общем, я доволен, за глаза доволен… Между прочим, скажи Ивану Павлычу или Георгию Валентиновичу, кого встретишь, что я опоздаю денька на три. Хочется заехать в Москву, освежить мозги… Ну, вот пока и все, тетя Соня. Жму твою трудовую руку и низко кланяюсь… Эдя».
Письмо привожу от слова до слова, как образчик эпистолярного жанра той, другой планеты. Я его взял (сделать это было нетрудно, потому что тетка Соня не особенно дорожила им) и прилагаю к запискам, дабы заткнуть рот всяким скептикам и маловерам, если те начнут что-нибудь вякать.
Дочитав письмо, тетка Соня положила его на стол и уставилась на меня каким-то подозрительным взглядом.
Потом она перевела взгляд на только что исписанные мною листы бумаги (голубой бумаги) и подозрительно нахмурилась.
— Что-то ты совсем по-другому стал писать… — Она положила письмо рядом с моей рукописью.
В самом деле, почерки у нас, то есть у меня и у здешнего Эдьки Свистуна, были разные, совсем разные.
У меня — прямой, разгонистый, без каких-либо закорючек. У него — с наклоном вправо и, что называется, убористый, не бисерный, как мне показалось вначале, а именно убористый, будто человек нарочно лепит буковку к буковке. А закорючки (письмо было усыпано закорючками) вились, как мышиные хвостики, и производили прямо-таки ошеломляющее впечатление. Я бы, кажется, ни в жизнь не смог написать таких удивительных закорючек.
Я оторопел, но быстро нашелся и сказал, что после всяких процедур моя правая рука совсем отказывает, вот и пришлось писать левой. Если я и лгал, то лгал лишь отчасти, так сказать, наполовину. В детстве я действительно был законченным левшой. С возрастом это прошло, я научился владеть правой рукой лучше, чем левой, но писать так и продолжал левой. Для большей убедительности я помахал перед теткой Соней правой рукой, придав ей несколько неестественное положение, и она поверила. Кажется, поверила.
— Ох, Эдя, Эдя! — только укоризненно сказала она и, переваливаясь с боку на бок, вышла во двор. К чему относилось это восклицание — к почтарям, француженкам или моей правой руке, — предоставляю догадаться читателю.
Письмо здешнего Эдьки Свистуна осталось на столе, рядом с моими записками. Помнится, я как раз дошел до встречи с Фросей и старался поточнее описать, как она была одета. Недолго думая, я взял письмо и засунул во внутренний карман моего земного костюма, что висел в шкафу. Потом собрал исписанные листки, свернул вчетверо и отправил туда же. Замечу кстати, что скоро этой писанины набралось столько, что и совать было некуда. Пришлось сходить на корабль и положить в контейнер. К концу моего пребывания на этой планете не один, а два контейнера, довольно вместительных, были забиты до отказа.