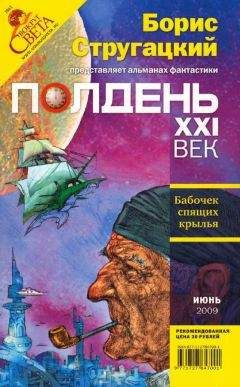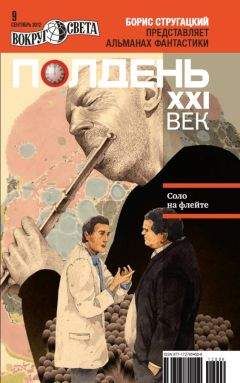Николай Романецкий - Полдень XXI век 2009 № 03
— Лапа, привет. Собралась? Понимаешь, какое дело, мне на завтра назначено. Да нельзя перенести, это по блату визит, по личным связям; с улицы не войдешь. Так что давай сама, лапонька.
Если получится, на воскресенье приеду, но не знаю. Ну, и у тебя свои планы, и чудесно… то есть, что значит «свои пла…»
Черт! Эта манера бросать трубку… Ну, конечно, и мобилу отключила. Ну и черт с тобой! Куда там дальше? Музыка и разум — близнецы-братья? Казалось бы, по какой-то дальней связи гармония должна соответствовать разуму. Выходит, музыка как воплощенная гармония природы соответствует не тому разуму, который есть и гнобит эту природу, а тому разуму, который должен быть, но которого почему-то нет. И каким же он должен быть? Альб говорил: слушайте музыку, и вы услышите, она это знает. Но когда же этот разум появится? Слушайте музыку, говорил Альб, и вы услышите, что этого она не знает. Еще и потому, что вы ведь не слушаете. Блин, куда ж я на красный-то. Да проезжай, проезжай! Нет, так не пойдет, так и до отпуска не доживешь. Надо что-то делать. Ну, посмотрим, что завтра этот мозголом скажет. Музыка так эффективна в производстве счастья потому, что центры в мозгу связаны, это установлено. А по Тулвингу, музыкальные фразы — даже несколько нот — могут быть ключами воспоминаний. Ключами счастья. Но и другими ключами тоже. Ведь музыка иногда просто воссоздает утраченные, заглохшие, ампутированные чувства, переживания, душевные движения, — и что-то со скрипом проворачивается внутри, и что-то всплывает со дна, и возникают в щемящей пустоте неизвестно откуда взявшиеся фантомные боли воспоминаний…
Суббота, 14 апреля— Да и общее — не очень. И ломит везде, и насморк, и голова гудит. Спать стал хуже. С женой… хотя… Но главное — из-за этого и пришел — появились какие-то мысли странные, чужие, там даже слова, которых я не знаю. Они — не мои. Голос даже не мой.
— Голос возникает, только когда отвлекаетесь от занятий, отдыхаете?
— Ну, да, когда чем-то занят, так этим и занят. Но если что-то привычное и делаешь на автомате — тоже бывает. Когда стандартные бумаги или за рулем…
— Нагрузки большие? Устаете? Выматываетесь?
— Ну, не без того. Вот, в июне отпуск, к морю собираюсь, а тут надо крутиться.
— По роду занятий — бизнесмен? коммерсант?
— «Продавец холода». Торговое оборудование сейчас — бешеный рынок, на нем даже наш московский центр не круче других, а мы филиал. Расслабляться нельзя, сами понимаете, всё должно быть под контролем.
— Понятно, понятно. Ну, давайте снимем этот пресс контроля и посмотрим, что там у вас.
— Психоанализ, да? Будете узнавать, подглядывал ли в детстве за папой с мамой? Нет. И сейчас тоже — ни за кем. А что, надо?
— Боже мой, это ваше дело. Нравится — подглядывайте. Я понимаю, вам нравится это слово, да и без него — за что же деньги? Если захотите, мы проведем сеанс, но пока он вам не нужен. А вот гипнотический явно показан.
— Зачем гипнотический?
— Посмотреть, что вас тревожит.
— А меня сейчас ничего не тревожит.
— В каждый миг нашего существования, Филипп Федорович, в нас — вся книга нашей жизни; гипноз позволяет перелистать ее и выправить загнутую страничку.
— А я, может, не поддаюсь!
— А мы попробуем. Чем мы рискуем, верно? Скидывайте с плеч пиджачок — и вместе с ним бремя ваших забот, долой туфли — эти офисные кандалы, мешавшие вам взлететь, ослабьте узел галстука — эту деловую петлю, которая вас душила, ложитесь на кушетку, словно в теплую морскую воду, потянитесь, как довольная жизнью кошка. Послушаем пульс… хорошо. Теперь возьмите в руку эту карточку.
— А что… это за… кредитка?..
— Не важно. Держите и внимательно, пристально смотрите на нее. А другую руку закиньте за голову, как на теплом, нежном, податливом песке под горячим, растапливающим мысли солнцем, под ласковый, мерный, убаюкивающий шелест набегающих волн. Вы внимательно, пристально смотрите. На карточку. Внимательно. Пристально. Вы расслаблены. Руки отяжелели. Отяжелели веки. Вы отдыхаете… отдыхаете…
Хотя Альб и говорил, что это всё подсознательные ассоциации, мир неразгаданный, мир, повернутый сразу во все стороны, но что-то просвечивает в том, как это происходит. Сначала — беспокойство, внутри возникают только обрывки целого, фрагменты, как у А. Ш., «материал, который хочет, но не может развиться». А у рисовальщика так могут витать части полусхваченных лиц: здесь один только острый нос, там уже застывшая на губах усмешка, но еще нет глаз, тут чуткое ухо, выдвигающееся из пустоты. Это те гандхарвы индийских сказаний, недоделанные творения, существа на стадии тумана, которых Беньямин узнал в помощниках из «Замка». Но у Кафки же есть и прямо портрет такого существа — «человек дождя» из какого-то фрагмента: «одна нога, кусок шляпы, пола дождевика…» Незавершенный портрет незавершенного. И Врубель писал, прорисовывая детали то там, то здесь… Нет, это другое, Врубель видел внутри уже всю картину целиком, а тут — что-то плавает, мерцает, как та прамузыка Альба: вроде уже есть, а вроде и нет, ее еще надо разгадать. И все это напрягается, беспокоит, пульсирует, словно нагнаивается, но не складывается. А потом вдруг в том же, что было, без прибавлений, — уже не куски, а целое, только не сплошь заполненное. Нашлась форма, интуитивно нашла себя. Когда, как это случилось — не уловить: только что не было, а теперь есть, словно всегда было. И теперь можно растить, заполнять пустоты — мир родился, пошла история. А могло так и остаться в кусках, перестоять, перегнить и потом расплыться, рассосаться. И это ужасно. А правила нет. И надо двигаться в темноте, и пытаться что-то осветить сознанием нельзя, потому что родиться все может только из этой тьмы бессознательного, и в ней нелепо что-то пытаться схватить наверняка. И ничего нельзя узнать, удержать; наше знание там — слепок с бегущей реки, посмертная маска, снятая с живого потока. Того, что мы там узнаём, уже нет и больше никогда не будет. Ключ не дается, билет не дается, ни в чем нет уверенности, и надежна только иллюзия. Блуждание во тьме как форма существования. Государство, в котором нет гражданства, и никому — никаких видов на жительство. Страна бомжей и лунатиков, в ней все — безродные космополиты, столь любимые у нас. Страна чудес, там воздух то гуще, то реже, то его нет совсем, там пестрое, неровно нарезанное время, там в непроглядной темноте все заполнено сухими биениями ненадежного метронома, и, вдруг вынырнув на свет, ты не знаешь, на каком ты свете. И кажется, что здесь уже все можно, но это только кажется, и надо бы остановиться и оглянуться, и только этого нельзя.