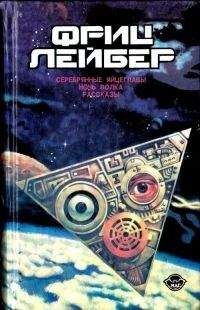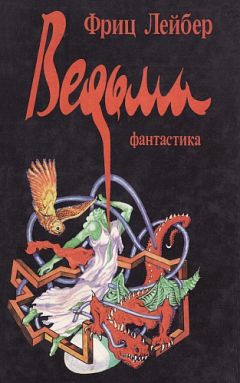Фриц Лейбер - Ночь волка
К этому времени мы уже не были так безусловно настороженны и не осматривали одежду друг друга в поисках спрятанного оружия так тщательно, как должны были, — я, во всяком случае. Быстро темнело, оставалось мало времени, и другой интерес становился преобладающим.
Мы все еще по инерции внимательно следили за тем, как действуем. Например, то, как мы снимали штаны, походило на балет — слегка подпрыгивая на левой ноге и одним движением высвобождая правую, мы были полностью готовы прыгнуть, не споткнувшись, если соперник сделает что-нибудь непредвиденное. Левая штанина снималась таким же быстрым движением.
Однако, как я уже сказал, становилось слишком поздно для того, чтобы сохранять настороженность, абсолютную настороженность, во всяком случае. Ситуация менялась очень быстро. Возможность причинить смерть или принять ее — наравне с шансом впасть в меньший грех, каннибализм, который кое-кто из нас практикует, — такая возможность внезапно пропала, полностью пропала. Похоже, на этот раз все будет в порядке, сказал я себе. На этот раз все будет иначе, на этот раз будет достаточно любви, на этот раз вожделение станет надежным фундаментом для взаимопонимания и доверия, на этот раз у нас будет действительно безопасная ночевка. Тело девушки станет мне домом, прекрасным, нежным, неистощимо восхитительным домом, а мое — станет домом для нее, навеки.
Когда она сбросила рубашку, последний темно-красный луч света осветил еще один гладкий косой шрам, этот — вокруг ее бедер, как узкий поясок, который слегка соскользнул с одной стороны.
II
Убийство гнусно по себе, но это
Гнуснее всех и всех бесчеловечней.
Когда я проснулся, дневной свет почти достиг своего максимального янтарного оттенка, и рядом с собой я не почувствовал тела, только одеяло внизу. Очень медленно я перевернулся на другой бок и обнаружил ее сидящей на краешке одеяла в двух футах от меня. Она расчесывала свои длинные черные волосы большой редкозубой расческой, вкрученной в накладку из кожи и металла на ее запястье.
Она надела штаны и рубаху, но первые были закатаны до колен, а вторая, хоть и заправленная в штаны, не была застегнута.
Она смотрела на меня, созерцала, можно сказать, совершенно задумчиво, с неясной, слабой улыбкой.
Я улыбнулся в ответ.
Это было восхитительно.
Слишком восхитительно. Что-то тут должно быть не так.
И было. О, ничего особенного. Так, один-единственный пустячок — ничего по-настоящему заслуживающего внимания.
Но самые крошечные, самые незначительные пустячки могут быть порой самыми несносными — всего лишь один комар, например.
В тот момент, когда я только повернулся к ней, она зачесывала свои волосы прямо назад, открывая клинообразную проплешину, которая, продолжая шрам на ее лбу, довольно глубоко заходила в волосы. Теперь, движением быстрым, но не выглядевшим поспешным, она отбросила всю массу волос вперед и налево, чтобы они закрыли лишенный волос участок. Одновременно она поджала губы.
Я был задет. Она не должна была скрывать от меня эту свою проплешинку, ведь это наш общий недостаток и это сблизило бы нас. И еще ей нельзя было как раз в тот же момент убирать улыбку с лица. Неужели она не понимала, что я люблю эту отметину на ее черепе так же, как и любую другую часть ее тела, что ей нет больше нужды упражняться передо мной в тщеславии?
Неужели она не понимала, что как только она перестала улыбаться, ее пристальный созерцательный взгляд стал оскорбительным для меня. Кто дал ей право глазеть — с насмешкой, я был уже уверен — на мою лысую голову? Какое право она имела знать о почти залеченной язве на моей левой голени? Да такая информация может стоить человеку жизни в бою. Какое право она имела хоть как-то прикрыть тело одеждой, когда я все еще оставался голым? Она обязана была разбудить меня, чтобы мы могли одеться так же, как и раздевались — вместе. Да, у нее далеко не все в порядке с манерами.
О, я знаю, что, если бы был способен подумать спокойно, если бы позавтракал и выпил чашечку кофе или даже если бы горячий завтрак был только готов к этому времени, я бы признал свое раздражение неразумным, ничтожным, как комариный укус, неприятным ощущением, каким оно, собственно, и было.
Даже без завтрака, если бы я знал, что впереди у меня относительно безопасный день, когда я смогу высказать свои чувства напрямик, я не был бы так обижен или, по крайней мере, моя обида не беспокоила бы меня так ужасно.
Но в Мертвых землях чувство безопасности — еще более редкий товар, чем горячий завтрак.
Да дай мне только хоть какую-нибудь надежду на безопасность и хоть плохонький горячий завтрак, и я сказал бы себе, что она просто очаровательно кокетничает по поводу этой плешивой полоски и своих волос, что для женщины совершенно естественна попытка оставаться немного таинственной перед лицом мужчины, с которым она делит постель.
Но в Мертвых землях любая тайна только озлобляет. Она пугает тебя и злит, словно ты животное. Тайны — это для культурных извращенцев. Определенно. А в Мертвых землях единственная возможность для двух людей держаться вместе, даже недолго — это никогда ничего не скрывать и никогда не делать движений, которые нельзя немедленно и ясно истолковать. Вы, понятно, не можете говорить — уж, во всяком случае, не в начале, — поэтому не можете ничего объяснить (как бы там ни было, объяснения — это, как правило, либо ложь, либо мечты), а значит, должны быть вдвойне осторожны и точны в том, что делаете.
А девушка такой не была. Вот и сейчас, в довершение к другим своим бестактностям, она откручивала расческу от своего запястья — недружественный, чтобы не сказать враждебный, акт, с чем кто угодно согласится.
И поймите правильно: ни одну из своих отрицательных эмоций я не проявил, как, впрочем, и она, если не считать, что она перестала улыбаться. Я-то улыбаться не перестал. Я играл по правилам до конца.
Но внутри меня все кипело, и другая потребность вернулась снова и вскоре снова начнет неудержимо расти.
Вот в чем беда с любовью как с одним из решений проблемы двух побудительных мотивов. Она хороша, пока длится, но скоро исчерпывает себя, и тогда снова сталкиваешься с Побуждением Номер Один, а у тебя уже не осталось ничего, что можно ему противопоставить.
О нет, сегодня я не буду убивать эту девушку, я, вероятно, не буду думать о том, чтобы убить ее, месяц или больше, но старое Побуждение Номер Один вернется и будет все время расти, по большей части подспудно. Конечно, кое-что можно сделать, чтобы ослабить этот рост, есть немало уловок — я достаточно опытен в такого рода делах.