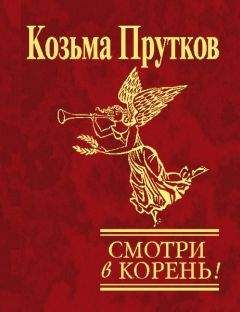Гарриет Хэпгуд - Квадратный корень из лета
– Я ничего не умею. Забыл Колбасу? – напомнила я. – Картину над кроватью Грея… твоей.
– Го, во имя всего святого! – Томас снова начал взволнованно ловить летучих мышей. Да что там, настоящих птеродактилей. – Почему ты вообще хочешь так рисовать? – И церковно-библиотечно-похоронным шепотом добавил: – И почему ты скрывала, что Грей собирал эротическое искусство?
– Нет, я… – Смех нахлынул так внезапно, что я не могла говорить. Томас наверняка подумал, что я полная дура, когда я согнулась пополам и засипела, махая руками у лица.
– Погоди, погоди, – пискнула я и снова зашлась. На этот раз смех стал взрывом облегчения, коротко и дразняще напомнив мне, каково быть переполняемой счастьем.
Томас тоже засмеялся:
– Го, это не смешно! Мне приходится жить в одной комнате с картиной! Мне кажется, она на меня смотрит!
От хохота я едва не захлебнулась, судорожно глотая воздух, балансируя на грани рассудка. Какая-то счастливая истерика, грозящая перелиться через край и превратиться во что-то похуже.
Я глубоко вздохнула, приминая поглубже смех и все остальное, и пояснила:
– Это я рисовала. Трояк поставили.
– Го, да ты шутишь! – Изумленный, Томас так и сел напротив. Неудивительно, раз он думал, что это шестифутовый синий пенис! Может, так оно и есть – вдруг я в тот момент думала о частях мальчишечьей анатомии, и отсюда все проблемы? Интересно, что означает по Фрейду «Боунер барн»?[19]
– Я же тебе говорила, я ничего не умею, – весело сказала я. На школьной художественной выставке я фальшиво хихикала, притворяясь, что смеюсь над собой, но с Томасом это получалось искренне. Ну не умею я рисовать, и бог с ним. – Твоя очередь. Нет, ну почему ты печешь?
– Бытует мнение, что кулинару нужно быть суперточным, – как в твоем проекте на дополнительные баллы, ну, о путешествиях во времени. Стоит ошибиться в расчетах, и все пропало, верно?
– Да…
– Это туфта! – радостно объявил Томас. Слово ласкало слух – тафту напоминает. Томас показал на миску: – Видишь кусочек скорлупы? Вынь его пальцем, и все дела! Перебухала муки, не положила масла, уронила сковороду – сколько бы ошибок ты ни сделала, в большинстве случаев все равно получится съедобно. В крайнем случае покрой глазурью.
– Что, правда?
Что-то у меня подозрения насчет его деловой хватки и коммерческих стандартов.
– Ну, в основном это метафора, но мне кажется, ты этого не понимаешь. На. – Он протянул мне шоколадку в зеленой обертке, и я отломила кусок: – Короче, я, возмечтав о карьере шефа-кондитера, стал яблочной шарлоткой в глазу отца. Это еще одна неудачная метафора, намекающая, что папаша далеко не в восторге от моих карьерных устремлений. Равно как и от моих оценок по всем предметам, кроме уроков труда.
– Ты плохо учишься? – спросила я.
После признания Колбасы у меня возникло множество вопросов. Большой тест Томаса Алтропа! Прошло пять лет, плюс я так долго молчала! Желание использовать рот – спрашивать, говорить и смеяться – было освежающе приятным, как первые раскаты грома наползающей грозы.
– Основной специальностью я выбрал выпечку – о, слышала, я сказал «выпечку», а не «пироги»! Канада понемногу сдает позиции. С оценками все в порядке, но маффины вместо колледжа – это, по мнению отца, провал. – Томас говорил непринужденно, но за его словами чувствовалось напряжение. Могу себе представить реакцию мистера Алторпа на несуразный план насчет булочной-кондитерской.
– Поэтому твои родители и разводятся? – Я откусила кусочек шоколада.
– Так-перетак, Го, – сказал вдруг Томас на чистом, как завтрак, английском. – Я балдею от твоей тевтонской деликатности! Вот что было раньше, курица или яйцо? – Он с несчастным видом уставился в миску, пальцем надрывая пакет муки. – Они и так постоянно ссорились; моя показательная одиночная отсидка после уроков уже ничего не решала. Она стала лишь проводником – или надо сказать катализатором? Отец вышел из себя, когда мать неожиданно встала на защиту моей будущей кондитерской – я покорил ее своими шоколатинами.
– Она хочет, чтобы ты жил с ней в Холкси? Но разве твой папа не пытался удержать тебя в Торонто?
– Жить в Холкси… – Он замолчал.
Тишина разрасталась, заполняя кухню. Мой рот снова будто оказался набит камнями, и я запихнула туда оставшийся шоколад, чтобы прогнать этот вкус.
– В Канаде вовсе неплохо, – признал Томас. – Но и не супер. Так, серединка наполовинку, каша маленького медвежонка, которая самая вкусная. Мать все равно планировала вернуться в Англию, а тут мне представилась возможность приехать, выбросив из жизни все эти неловкие годы. Признаюсь, мне было любопытно.
– В смысле?
Он выставил кулак с отставленным мизинцем. Наш детский сигнал, обещание, салют и тому подобное. Я нечаянно проглотила весь шоколад, но кулака не подала. Не могу. Пока не могу. Некоторое время мы сидели не шевелясь, затем Томас произнес:
– В смысле тебя.
На этот раз мы очень долго разглядывали потолок и стены. Уверена, у Томаса была тысяча причин вернуться в Холкси, и я только одна из них. Но это признание, поэтому я сочла нужным ответить на него своим признанием – в форме вопроса:
– Томас… Когда ты уехал, почему ты так и не написал? Только не начинай спрашивать меня о том же, потому что мне нужно знать. Ты же… просто исчез.
– Я понимаю, тебе нужна единственная веская и судьбоносная причина, – сказал он, снова усаживаясь на стул и положив руки на колени. – А скучная правда заключается во множестве мелких причин. Я же не знал ни твоего электронного адреса, ни телефона – когда мне хотелось с тобой поговорить, я всегда пролезал через дыру в заборе. Кроме того, я не знал, где взять марок. До Нью-Йорка мы добирались восемь часов, там остановились в гостинице, и родители с меня глаз не спускали из-за нашей клятвы на крови. В Торонто отец взвалил на меня миллион дел по дому, надо было записываться в школу, потом мать заставила подстричься, потому что в первый день в новой школе все должны обалдеть от твоего облика средневекового монаха. – Томас начинал кипятиться – руки снова залетали в воздухе. – Отец держал свой кабинет на замке, а когда выдвижной ящик на кухне наконец наполнился скрепками, марками, комком аптечных резинок и карандашом с маленьким троллем на конце, я сел писать, но знаешь, что я заметил? Прошло уже больше месяца, а ты так и не написала мне.
Я не могла поверить, что все так просто. Все это время я думала, что его молчание – одностороннее решение и огромное предательство. Мне не приходило в голову, что это абсолютно в духе Томаса – двенадцатилетнего, неорганизованного и упрямого. Плюс география. Стали бы последние пять лет другими, если бы я сама написала ему?