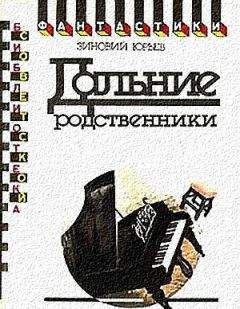Зиновий Юрьев - Дарю вам память
И снова прибойная волна слепого ужаса, снова прыжок пойманного в ловушку зверя. Выходит, он заключен в этой бездыханной и бессердечной оболочке? И где вообще он? Наверняка они еще не увезли его из Приозерного. Только бы вырваться из этой чужой плоти, вернуться к привычному миру, соединиться со своим живым, теплым телом, в котором успокаивающе бьется сердце и в котором перекатываются под упругой кожей бицепсы, накачиваемые каждое утро пятикилограммовыми гантелями.
И из далекого детства пришел вдруг плач, сотряс плечи. Захотелось уткнуться носом в толстую вязаную материну юбку, слабо пахнувшую нафталином, и ощутить на затылке знакомую руку. Рука ласково взъерошит на макушке волосы, и мама скажет: «Нет-ту, нет-ту», — и сразу страхи, как побитые псы, уползут от него, и мир снова обретет привычную приветливость.
И в этот момент он услышал знакомую мелодию. Ту, что слышал в заливчике, стоя рядом с облупленной «казанкой». И снова из чужой печали рождался зов, слабый крик о помощи, тянулись к нему далекие руки. И как-то сам по себе ушел страх, потому что стыдно за свой детский ужас, если к тебе с мольбой протягивают руки, если ты силен, могуч и обещал защитить слабых.
И когда, как в далеком детстве, отпустили его псы страха, удрали из комнаты, изгнанные беззвучной музыкой, ощутил вдруг Павел редкостную умственную прозрачность, в которой мысль легко и мощно устремлялась в любом направлении. Стройная, четкая, бесстрашная.
Он пришел, чтобы помочь. Величайшее благо из доступных человеку — помочь ближнему. И он, Пашка Пухначев, журналист районной газеты «Знамя труда», одарен невероятной, незаслуженной удачей: он может помочь братьям по разуму.
И с гордостью пришло спокойствие, а мысль о том, другом Павле Аристарховом сыне, который мучается сейчас, наверное, над фельетоном о плохой работе бани, наполнила его легкой, летучей грустью. Как ты там, Пашка? Как ты там, дурачок? Как мама? Помни, эгоист ничтожный, что она жаждет внуков, не будь слишком переборчив. Люба, например, вовсе недурна собой. Преподает в музыкальной школе, так что снобизм твой университетский будет улещен таким союзом.
Павел поймал себя на мысли, что подталкивает свое земное «я» к браку с эгоизмом свахи, а ведь земной Пашка не очень-то торопился каждый день слушать фортепьянные экзерсизы в исполнении Любы.
Ну, раз вспомнил ты, брат, Любу, значит, начинаешь понемножку осваиваться. Мысль эту как будто тут же услышали, потому что дверь распахнулась, и в комнату вошла, отчетливо цокая коготками по твердому полу, собака.
— Ну, как самочувствие, Павел Аристархович? — спросила собака. — Мы вас некоторое время не беспокоили, чтобы вы могли собраться с мыслями…
— Спасибо, немножко очухался, — сказал Павел и вдруг подумал, что это, наверное, та самая собака, с пятой ноги которой все началось.
— Простите, вы… — он на секунду замялся, вспоминая, как звали пятиногого пса, — Мюллер?
— В некотором смысле да. — Мюллер церемонно кивнул ему бело-черной мордочкой.
— Что значит «в некотором смысле»?
— Ну, во-первых, я — это я, житель моей планеты. Я, к сожалению, не могу вам назвать свое имя…
— Совсем как в шпионских фильмах…
— Шпионских?.. Ах да. Нет, дело не в этом, — усмехнулась собачонка. — Дело в том, что у нас нет имен в вашем понимании этого слова. Зато каждый из нас имеет свое поле, и в это поле включен отличительный сигнал, мой собственный сигнал, по которому все, кто соприкасается своим полем с моим, сразу же определяют, с кем они встретились.
— Но можно же просто увидеть?
— Конечно, но мы уже говорили вам, что неизменность формы — это свойство вашего мира. В нашем же почти нет застывших форм, поэтому вид предмета или живого существа вовсе не являемся его важной характеристикой. Впрочем, об этом мы еще поговорим.
Все это необыкновенно важно и интересно, подумал Павел, но спросил совсем о другом:
— А почему вы сделали себе пять ног?
— Пять ног?
— Ну, тогда, когда вас сфотографировал Сережа Коняхин.
— А, тогда! Во-первых, по рассеянности. Вы не представляете себе, как это трудно — все время держать в памяти множество неизменных форм вещей. А кроме того, мы решили вначале немного расшатать, так сказать, ваши привычные представления. Подготовить к нашему предложению. Мы отдавали себе отчет, что для цивилизации, никогда не встречавшей представителей иных миров, наша просьба была не простой. Тем более, что эта просьба была обращена к самым обычным людям, которые сами должны были решать, ответить на нее или нет.
— Понимаю, — сказал Павел.
— А теперь, с вашего разрешения, позвольте пригласить вас в соседнюю комнату; по-моему, все уже немножко освоились с новой обстановкой.
Павел поднялся с кресла и еще раз подивился текучей легкости, с которой он двигался в этом мире. Он прошел за псом в соседнюю комнату, в которой было с десяток кресел. Большая часть из них была занята.
— Павел Аристархов сын! — воскликнул Иван Андреевич, протягивая Павлу руку. — Как вы, дорогой мой?
— Спасибо, а вы?
— Изумительно! В первый раз за последние пять лет я абсолютно не чувствую своего сердца, даже намека нет на мой ревмокардит.
— Какой может быть ревмокардит, когда у нас нет сердец, — сказал Александр Яковлевич Михайленко, заведующий аптекой. Он был в белом застиранном халате, и от верхней желтой пуговки осталась только половина. — Представляете, здесь нет лекарств! Я, признаться, вначале думал, что меня пригласили сюда, так сказать, в качестве фармацевта-консультанта. И вот на тебе — нет ни лекарств, ни болезней.
— Это как же нет болезней? — подозрительно спросила Татьяна Осокина и не ответила даже на кивок Павла. — Это как же без болезней? — уже почти взвизгнула она. — А у меня ишиас, спросите хоть Бухштауба!
— Бухштауб далеко, — сказал Александр Яковлевич, — и к тому же вспомним, что сказал по этому поводу…
— Опять поучать собрались? — недовольно наморщила лоб Осокина.
— Друзья мои, — сказал Иван Андреевич, — не будем начинать наше новое существование с ссор и свар. Наши нервы напряжены…
— Если они у нас есть, — пожал плечами Александр Яковлевич, и половинка пуговицы на его халате вылезла из петли.
— У меня нервы никуда, — сказала со спокойным достоинством Татьяна Осокина. — И аллергия. На пух и на перо.
— Значит, ни пуха вам ни пера, — важно молвил Александр Яковлевич, и Надя Грушина, молча сидевшая рядом с Сергеем, вдруг прыснула.
— И ничего смешного нет, — обиженно поджала губы Татьяна Владимировна. — Молода еще смеяться!..
— А я и не смеюсь, — вздернула плечи Надя.