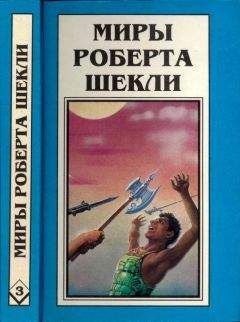Рэй Брэдбери - Холодный ветер, тёплый ветер (авторский сборник)
Линкольн. Именно такова его задумка. Новое рождение Линкольна.
А сам Фиппс? О, именно ему предстоит произвести на свет, вскормить и вырастить этого чудо-младенца — робота.
Разве не счастье… снова очутиться на лугу под Геттисбергом, слушать, постигать, видеть, оттачивать, как острие бритвы, грани своей души и жить!
Бэйс еще раз обошел неловко склоненную фигуру в кресле, вспоминая дни, считая годы…
Вечер. Фиппс с бокалом в руке, а в гранях бокала, словно в линзе, отблеск прошлого и свет будущего.
— Я всегда мечтал создать фильм о Геттисберге… Огромное скопление народа, и где-то у самого края разморенной жарою, охваченной нетерпением толпы стоит фермер, а рядом мальчик, его сын. Они жадно ловят слова, которые доносит до них ветер. Их произносит оратор на далеком помосте. Они то слышат, то не слышат, что говорит высокий худой человек в цилиндре. Вот он снимает цилиндр, заглядывает в него, словно в собственную душу, будто читает в ней то, что записал, и начинает говорить.
Фермер, чтобы сынишку не задавила толпа, сажает его на плечи, и девятилетний мальчуган становится ушами отца, ибо фермер почти не слышит, а лишь догадывается, что говорит президент, обращаясь к морю людей, собравшихся в Геттисберге. Высокий голос то слышен отчетливо, то не слышен совсем, когда его относит ветер или же легкий озорной ветерок, словно вздумавший соперничать с ним. Слишком многие ораторы выступали до президента; толпа порядком устала, лица мокры от пота, праздничная одежда измята. Скотоводы и фермеры тяжело переминаются с ноги на ногу, неловко задевают друг друга локтями, а отец торопит сына: "Ну же, ну говори, что он сказал…" Подставив ветру розовое в нежном пушке ухо, мальчик послушно повторяет каждое долетевшее слово:
"Восемьдесят семь лет тому назад…"
— Да!
"…наши отцы создали…"
— Да, да!
"…на этом континенте…"
— Где? Где?
— На этом континенте!.. "новую нацию, рожденную свободой, верящую в то, что все люди…"
Вот как это было. Ветер относил в сторону еле слышные слова, человек продолжал говорить, плечи фермера не чувствовали тяжести — своя ноша плечи не тянет, — а мальчуган горячим шопотом повторял каждое услышанное слово. Фермер сам то слышал обрывкп фраз, то не слышал ничего, но как-то само собой все понял до конца…
— "…пусть правительство народа, из народа, для народа живет вечно…"
Мальчик умолк.
Все.
Толпа покидает луг, растекаясь во все стороны. Гетгисберг становится историей.
Фермер не торопится снять с плеч толмача-мальчишку, пересказавшего ему то, что донес ветер, но мальчик, потеряв уже интерес, сам спрыгивает на землю…
Бэйс не сводил глаз с Фиппса.
А тот, допив коктейль и внезапно погрустнев от переполнивших его чувств, вдруг в сердцах воскликнул:
— Мне никогда не снять этот фильм. Но вот это я все-таки сделаю!
Тогда-то он и разложил на столе чертежи фирмы Фиппса "Эвереди Сэлем, Иллинойс и Спрингфилд Линкольн Мэкеникл" по изготовлению машины привидений, электронно-каучуковых, самых совершенных и самых дерзких и смелых снов.
Фиппс и его творение — совсем готовый, совсем настоящий, во весь свой немалый рост младенец Линкольн. Да, Линкольн, вызванный к жизни из дебрей технологии, усыновленный романтиком, созданный потому, чтд так велело сердце. Получив жизнь от разряда молнии, а голос от безымянного актера, он вошел в этот мир, чтобы отныне пребывать вечно в этом глухом уголке юго-запада старой-новой Америки. Фиппс и Линкольн!
Да, в этот день слова Фиппса были встречены взрывом смеха, но он, словно и не заметив этого, лишь сказал:
— На лугу у Геттисберга мы обязательно, да, да, обязательно, станем там, где стоял фермер с сынишкой. Это наветренная сторона, здесь все будет слышно.
Он поделился со всеми своим сокровищем. Одному поручил арматуру, другому воссоздать благородную форму черепа, третьему поймать и записать голос и слова, а остальным, и их было не мало, найти неповторимый цвет кожи, волос и отпечатки пальцев. Увы, прикосновение Линкольна приходилось заимствовать!
Отныне подшучивания и насмешки вошли в привычку, стали чем-то, без чего и не обойтись.
Эйб никогда не заговорит, в этом нет сомнений, и никогда не сделает ни шагу. Все придется сдать на свалку — выброшенные деньги.
Но по мере того как месяцы превращались в годы, вспышки иронического смеха сменялись понимающими улыбками, откровенным изумлением. Они все напоминали мальчишек, из озорства вступивших в тайное и пугающе веселое братство могильщиков, чтобы встречаться в полночь в кладбищенских склепах, а на рассвете исчезать, как тени, среди могил.
Бригада Линкольна росла, как на дрожжах. Вместо одного одержимого уже десяток их рылись в истлевших подшивках старых газет, выпрашивали, а то и не спросясь попросту уносили посмертные маски, хоронили пластиковые кости, чтобы потом выкапывать их вновь.
Многие побывали на полях Гражданской войны в надежде, что в одно прекрасное утро ветер истории взметнет, как флаги, полы их сюртуков. Иные октябрьскими днями бродили по окрестностям Сэлема, обгорая до черноты под прощальными лучами солнца, жадно внюхиваясь, навострив уши, пытаясь поймать еще один голос какого-нибудь долговязого адвоката, ловя эхо прошлого, доказывая, убеждая.
Разумеется, Фиппс волновался больше всех и больше всех был преисполнен тревожной отцовской гордости. Но вот робот на сборочном столе. Теперь предстояло собрать его, дать ему голос, подняв гуттаперчивые веки, вложить в глубокие глазницы печальные глаза, видевшие так много, приладить большие уши, которым суждено слышать лишь прошлое, и крупные руки с узловатыми суставами, словно маятники, отсекающие время, канувшее в вечность. А затем портные, нет, его Ученики, обрядили его в одежды и наглухо застегнули на все пуговицы, повязали галстук, и в одно великолепное пасхальное утро на иерусалимских холмах приготовились сдвинуть могильный камень и повелеть ему встать.
В последний час последнего дня Фиппс, выпроводив всех, остался наедине с распростертым телом и безмолвствующим духом, чтобы завершить последние приготовления. Наконец он открыл двери и пригласил их — не буквально, а скорее символически — поднять его на плечи в последний раз.
В наступившей тишине Фиппс, обращаясь к полям былых сражений и еще дальше, за горизонт, крикнул, что его место не в могиле: восстань!
И Линкольн шевельнулся в прохладной темноте спрингфилдского мраморного склепа, пробуждаясь от сна, и поверил, что он жив.
Он встал.
Он заговорил.
Зазвонил телефон.
Бэйс вздрогнул.