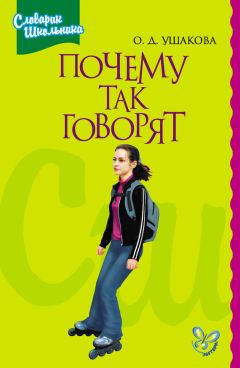Гай Дойчер - Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе
Но призвание к исцелению душевных недугов проявилось у Риверса уже после того, как он сделал блестящую карьеру в двух других областях: экспериментальной психологии, а затем антропологии. Именно как экспериментального психолога Риверса пригласили в 1898 году принять участие в антропологической экспедиции Кембриджского университета на острова Торресова пролива, что между Австралией и Новой Гвинеей. Но за время пребывания на островах он заинтересовался общественными институтами, и там-то и начались его плодотворные исследования родственных отношений и социальной организации, которые, по всеобщему мнению, заложили основы социальной антропологии как научной дисциплины и дали Клоду Леви-Строссу основание назвать Риверса «Галилеем антропологии».[123]
У. Х. Р. Риверс с друзьями (Музей археологии и антропологии, Кембридж)
Кембриджская экспедиция в Торресов пролив должна была пролить свет на особенности мышления первобытных народов. Молодая наука антропология стремилась определить свой предмет – «культуру» – и разграничить приобретенные и врожденные аспекты человеческого поведения.
А для этого необходимо было определить, до какой степени различались когнитивные особенности первобытных и цивилизованных народов, и экспедиция должна была помочь продвинуться дальше уже известных и по большей части разрозненных фактов. Как объяснял руководитель экспедиции, «впервые квалифицированные психологи-экспериментаторы исследовали с помощью соответствующего лабораторного оборудования людей на ранней стадии культуры в привычных для них условиях жизни».[124] Многотомные педантичные отчеты, опубликованные в дальнейшем Риверсом и другими участниками, помогли более четко разграничить природные и культурные черты, и, как принято считать, экспедиция в Торресов пролив стала событием, превратившим антропологию в серьезную науку.
Сам Риверс принял участие в экспедиции 1898 года, чтобы провести подробные эксперименты со зрением туземцев. В 1890-е годы он пристально изучал зрение и поэтому стремился положить конец спорам о восприятии цвета, которые за два предыдущих десятилетия почти не сдвинулись с мертвой точки. Он хотел увидеть своими глазами, как цветовое зрение туземцев соотносится с их цветовым словарем и связана ли способность улавливать отличия со способностью выражать эти отличия словами.
Риверс провел четыре месяца на удаленном острове Мюррей, на восточном краю Торресова пролива, к северу от Большого Барьерного рифа. Остров населяла покладистая маленькая община дружелюбных туземцев из приблизительно 450 человек, «достаточно цивилизованных», чтобы он смог их обследовать, и все-таки, как он писал, «довольно близких к первобытному состоянию, чтобы представлять определенный интерес. Нет сомнения, что тридцать лет назад они были совершенно дикими, абсолютно не затронутыми цивилизацией».
То, что Риверс нашел в цветовом словаре островитян, хорошо сочеталось с сообщениями предыдущих двадцати лет. Описания цветов были в основном расплывчатыми и неопределенными, а иногда вызывали изрядную неуверенность. Наиболее определенными были названия черного, белого и красного. Слово для «черного», golegole, произошло от gole – «каракатица» (Риверс предположил, что оно относится к темным чернилам, которые выделяет это животное), «белое» было kakekakek (с неясной этимологией), а слово «красный», mamamamam, по всей вероятности, произошло от mam, «кровь». Большинство людей использовали mamamamam также для розового и коричневого. Другие цвета имели все менее определенные и общепринятые названия. Желтый и оранжевый многие называли bambam (от bam – «куркума»), но другие называли siusiu (от siu – «желтая охра»). Зеленый многие называли soskepusoskep (от soskep – «желчь», «желчный пузырь»), но другие говорили «цвета листьев» или «гнойного цвета». Словарь для синих и фиолетовых тонов был еще более расплывчатым. Некоторые носители языка помоложе использовали слово bulu-bulu, очевидное недавнее заимствование английского blue, «синий». Но Риверс сообщает, что «старики согласны, что их собственное правильное слово для синего было golegole – черный». Фиолетовый тоже в основном называли golegole.
Риверс отмечал, что «среди туземцев часто начинались оживленные дискуссии о том, как правильно назвать цвет»[125]. Когда их просили назвать слова для обозначения конкретных цветов, многие островитяне говорили, что им надо посоветоваться с мудрыми людьми. А если исследователи проявляли настойчивость, то туземцы просто называли конкретные объекты. Например, когда показывали желтовато-зеленый оттенок, один человек назвал его «зеленым, как море» и показал в направлении особенно большого рифа.
Словарь островитян с Мюррея был явно «дефектным», но как насчет их зрения? Риверс обследовал свыше двухсот туземцев на предмет цветоразличения, подвергая их подробному тестированию. Он использовал улучшенную и расширенную версию теста Хольмгрена с шерстью и разработал серию собственных экспериментов, чтобы выявить малейшие признаки неспособности воспринимать отличия цвета. Но он не нашел ни одного случая цветовой слепоты. Островитяне не просто отличали все основные цвета, но и различали разные оттенки синего или любого другого цвета. Так что тщательные эксперименты Риверса не оставили никаких сомнений: люди могут видеть разницу между любыми возможными оттенками и все же не иметь в языке устоявшихся наименований даже для таких основных цветов, как зеленый или синий.
Очевидно, что исследователь со столь острым умом мог прийти к одному лишь выводу: отличия в цветовом словаре никак не связаны с биологическими факторами. Но одно обстоятельство чрезвычайно сильно поразило Риверса, совершенно сбив ученого с пути. Он столкнулся с самой удивительной из всех странностей, феноменом, о котором филологи могли лишь догадываться по древним текстам, но с которым Риверс встретился вживую: люди, называющие небо «черным». Как с изумлением пишет в своих экспедиционных отчетах Риверс, он просто не мог понять, как старики с острова Мюррей могут считать совершенно естественным использование понятия «черный» (golegole) к сияющей синеве неба и моря. С таким же недоверием он упоминает, как один из островитян, «смышленый туземец», радостно сравнил оттенок неба с цветом грязной темной воды. Это поведение, пишет Риверс, «казалось почти необъяснимым, если только синий для этих туземцев не был цветом более тусклым и темным, чем для нас».[126]
Итак, Риверс пришел к выводу, что Магнус был прав в своем предположении: туземцы все-таки должны страдать «некоторой степенью нечувствительности к синему (и, может быть, к зеленому) по сравнению с европейцами».[127] Будучи добросовестным ученым, Риверс понимал слабость своего утверждения и высказывал его очень осторожно. Он объясняет, что его результаты подтвердили невозможность заключить по языку, что видят его носители. Он даже упоминает молодое поколение носителей, которые, разжившись для синего цвета словом «булу-булу», использовали его без заметных колебаний. И все-таки, признавая все эти возражения, он на них замечает – как будто одного факта достаточно, чтобы опровергнуть все прочие: «Невозможно, однако, полностью игнорировать тот факт, что умные туземцы считают совершенно естественным применять к сияющему синему небу и морю то же название, которым они называют глубочайший черный цвет».[128]