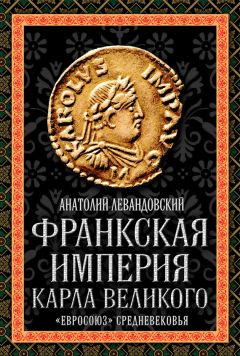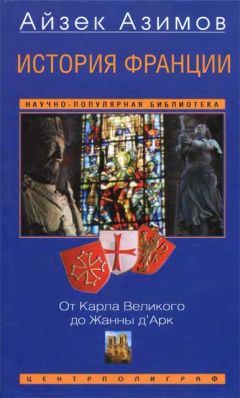Юрий Нестеренко - Приговор
растаял в несколько дней. Такая же погода сохранялась и в начале нового
года. Наступившая оттепель, впрочем, напоминала скорее позднюю осень,
нежели весну: небо сутками напролет было сплошь обложено тучами,
постоянно дул сырой и холодный ветер, иногда срывавшийся каплями дождя.
В один из таких январских дней путник, бредущий или едущий по
тракту, опоясывающему с запада Традельонский лес, примерно в шести милях
к северу от трактира "Коготь медведя" (еще не так давно называвшегося
"Коготь грифона", но теперь хозяин счел за благо сменить название на
более нейтральное), мог бы наблюдать довольно необычную картину. Прямо
из леса, в месте, где не было никаких дорог, вышла пара, состоявшая из
взрослого мужчины и девочки, едва вступившей в период отрочества. На
мужчине была дорогая кунья шапка, что могло бы навести на мысль о его
принадлежности к небедному и знатному роду, если бы не грубого покроя
медвежья шуба, какие носят люди куда более простого звания (столь же
неаристократично выглядела и его борода, явно отросшая без всякого
пригляда цирюльника). Из-под полы полурасстегнутой шубы, однако,
выглядывали ножны рыцарского меча, каковой, впрочем, при таком способе
ношения было бы затруднительно быстро извлечь в случае опасности.
Видавшие виды, хотя и еще крепкие, сапоги были заляпаны бурой грязью.
Одежда девочки была еще экзотичней: поверх доходившей ей до колен
вязаной фуфайки красовалась связанная спереди лапами волчья шкура,
зубастая голова которой служила ребенку капюшоном. (Любопытство путника
было бы еще более возбуждено, если бы он знал, что под шкурой на фуфайке
скрывается кровавое пятно, которое так и не удалось толком отстирать; с
внутренней стороны шубы, кстати говоря, было такое же.) Ноги девочки
утопали в мешковатых штанах, обрезанных по низу, а на ее ступни было
накручено нечто из медвежьего меха, скрепленное ремнями на лодыжках; на
снегу такая альтернатива сапогам (оказавшимся чересчур большими)
смотрелась бы, возможно, и неплохо, но сейчас мех слипся от грязи и
являл собой жалкое зрелище.
Однако никакого путника не случилось на тракте в этот хмурый
предвечерний час, и никто не видел, как мы пересекли дорогу и вышли на
тропу, сворачивавшую к воротам угрюмой крепости с толстыми стенами и
круглыми массивными башнями. Выстроенная по всем правилам
фортификационной науки, она могла дать достойный отпор любому противнику
и, судя по видневшимся тут и там на стенах выбоинам, уже не раз это
делала. Однако над башнями и возвышавшимися над зубчатой кромкой стен
внутренними строениями крепости не было ни грифонских, ни львиных
знамен. Только остроконечные кресты. Это был женский монастырь святой
Катарины.
Главные ворота, заключенные между двумя башнями, были, естественно,
заперты. Я постучал в калитку в башне слева от них.
Что-то щелкнуло, и в калитке открылось окошко — скорее даже щель,
сквозь которую можно было разглядеть лишь глаза и нос привратницы.
— Мне нужно переговорить с аббатисой, — сказал я. — Речь идет о
девочке, которая крайне нуждается в помощи.
— Об этой девочке? — уточнила монахиня, разглядывая наряд мрачно
молчавшей Эвьет.
— Да.
Некоторое время она раздумывала; должно быть, волчья шкура
произвела на нее не самое благоприятное впечатление. Затем приняла
решение:
— Она может войти. Вы — нет. Ни один мужчина не может входить на
территорию монастыря.
— Я могу войти туда, куда мне потребуется! Именем Ришарда Йорлинга!
— я поднес перстень к ее глазам.
— Власть земных владык кончается у этого порога, — твердо возразила
привратница. — Мы отвечали это людям Карла и повторим людям Ришарда. У
нас лишь один сюзерен — отец наш небесный.
— Прошу прощения, сестра, — смиренно наклонил голову я. — Это была
проверка. Теперь я вижу, что за этими стенами девочка действительно
может быть в безопасности. Тем не менее, мне все-таки необходимо
обсудить эту тему с аббатисой. Прошу вас, это не займет много времени.
— Могу лишь повторить то, что уже сказала: мужчина не может входить
в монастырь.
— Разве к вам не приходит священник, чтобы исповедовать сестер и
свершать иные таинства, заповеданные женщинам? — (вот, кстати, еще одна
совершенно идиотская церковная догма.)
— Вы не священник.
— А чем он отличается от обычного мужчины? Только тем, что дал обет
целомудрия, не так ли? Но я тоже дал такой обет высшему судье.
Ей, конечно, ни к чему знать, что под высшим судьей я подразумеваю
самого себя. Да и обетом, в общем-то, едва ли можно назвать осмысленный
отказ от того, одна мысль о чем вызывает отвращение.
— Вы совершаете большой грех, если говорите неправду, — строго
сказала монахиня.
— Я говорю правду. Клянусь спасением моей души, — забавно, однако,
что подтверждать истину приходится лживой, по сути, клятвой, ибо во всю
эту чепуху про душу и ее спасение я не верю ни на миг. Привратница явно
пребывала в сомнениях, и я решил ее поддеть: — Послушайте, сестра, я не
понимаю, чего вы боитесь. С моей стороны всякое неподобающее поведение
исключено. Неужели вы опасаетесь, что один лишь вид прошедшего по
коридору мужчины ввергнет во грех ваших сестер? Неужели они настолько
нетверды в вере?
Монахиня недовольно нахмурилась, но не нашла, что возразить по
существу, и лишь произнесла любимую фразу всех привратников, независимо
от того, носят они кольчугу, ливрею или сутану:
— Это не положено.
— Речь идет о человеческой жизни. Разве сам Спаситель не заповедал
нам, что это важнее формальных правил? "Если ваша овца упадет в яму в
день субботний, разве не спасете вы ее?" — единственное, что мне
нравится в Священном писании, так это возможность найти цитату в
подтверждение любого тезиса, включая диаметрально противоположные.
Привратница задумалась.
— Ждите здесь, — решилась она наконец. — Я спрошу у матери
настоятельницы.
Окошко хлопнуло, закрываясь. Ждать, впрочем, пришлось не слишком
долго.
— Мать настоятельница примет вас. Я проведу вас особым ходом.
Скорее всего, вы не увидите других сестер. Но если все-таки такое
случится — не смотрите на них и не заговаривайте с ними. Вы все поняли?
— Да.
— Отдайте ваше оружие.