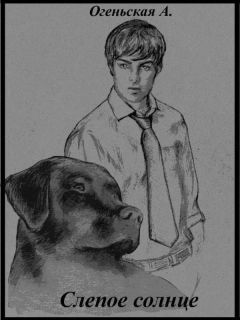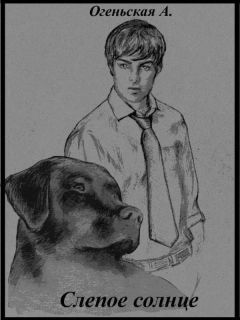Виктор Козько - Прохожий
Только не подумайте, что я уж совсем обнаглел, жажду возродиться дубом и жить тысячелетия. Не стою я такого подарка, такой милости, хоть за свои лета порядочно одубел и задубел. И мерзости во мне всякой за те же лета - что в добром пиве пены, может, даже больше пены, чем самого пива.
Я прохожий в этом мире, странник. Из каких стран, из каких миров этого не дано мне знать. Наверное, слава Богу. Хотя хочется памяти, пускай в звере, траве, дереве.
Можжевельник - тихое, робкое и неброское, как и сам здешний человек, деревцо или кустик. И не без понимания красоты, чувства собственного достоинства, вечно зеленый. На прочих деревьях всё шишки да сережки или лист словно блин. А тут мониста, бусы на груди. Чистое и на чистом растет и лишнего из себя ничего не корчит, не пыжится, чтобы выглядеть лучше, чем есть. Наоборот, стремится спрятаться, сойти с глаз, но не затеряться, а встать где-то на границе меж болотом и лесом, где земля хоть и не бедная, но и не совсем уж зажиревшая, черноземная, торфяная, больше песочек да песочек, как и на крестьянской ниве. Одним словом, это деревце нашей пустоватой в общем земли. Украшает ее тихой печалью и такой же тихой радостью своего присутствия. Терпеливое, потому что надеется только на себя, на кого же больше в лесу доброму дереву и надеяться? Сила, мощь в нем космические, краю тому, где можжевельник растет, придатные и обережные, потому что озоном дышит. Мною же сотворенные над моей же головой дыры в небе своими иголочками-пальчиками латает. В бане недужных и старых омолаживает, будто грехи отпускает.
Изредка, по крайней на то нужде, подходит человек с топором или ножом к можжевельнику, если долго живет и долго еще жить загадывает. На пиру жизни, когда заколет кабана и свеженина у него заведется, нет лучшего, чем можжевельник, дерева для копчения. Лучший дым - свой дым, что тебе же глаза ест. И никакой рыбе, тому же язю на полпуда или голавлю, не даст он загнить ни с головы, ни с хвоста, потому что чистое, чистое это дерево, без ущерба и порчи.
Я полюбил можжевельник еще в пастушках, когда встречал его в тени и одиночестве меж гордых и гонких сосен, белых заласканных берез. Нечто единое, братское было в нашей доле. И я неотрывно глядел в его затуманенные на исходе лета глаза - ягоды. Нечто таинственное и сокрытое для меня было в тех его очах, какой-то призыв и предупреждение. Я заглядывал, казалось, в некую бездну и терялся в той бездне, потому что ничего не знал о ней, о жизни. Неискушенный, безгранично принимал все, что видели мои глаза, слышали мои уши, куда ступала моя нога, не сознавая, что только просыпаюсь, что только зачинаюсь я сам. Существую на белом свете лишь на ощупь.
Я говорил с гадами болотными, ужом, гадюкой и даже медянкой, когда случайно сходились наши стежки. И все же не совсем уж случайно, потому что, как и все в детстве, норовил ходить по острию ножа. Укус же медянки считался в нашем крае смертельным. Не знал тогда, что это самое безобидное существо из всех, что есть на земле. Боялся ее и тянулся к ней.
Не знаю почему, но медянки избрали для себя старые и густо политые кровью времен недалекой еще войны солдатские окопы. Может, они и рождались, отливались из той крови, как отливается из церковного воска свеча по покойнику. И полесский, не заросший еще травой забытья белый песок бруствера окопчика был им чем-то вроде алтаря. Они всходили на том песке, на крови красноармейцев и немцев и часами недвижной свечой, не испещренным грамотой пергаментом, посланием с того света, угревались под чуть тронутым уже вечером солнцем.
Обмирая, не помня себя, я подкрадывался к ним. Ужас и страх подгоняли меня. И желание изведать этот страх до донышка, пройти через него и вернуться. Чтобы избыть его да еще от щекотливо-щемящего любопытства заводил с ними разговор, спрашивал:
- Кто вы, откуда и зачем? Есть ли у вас право жить только на смерть людям?
Конечно, ответа не было. Но вы понимаете, я говорил не с медянками, а с самим первосоздателем, творцом всего сущего. И, отравленный страхом и собственной дерзостью, слышал, как шепчет мне в ответ, осыпаясь от моего перехваченного дыхания, седой полесский песок. Говорят не медянки, а медноствольные полесские хвои, по верхушкам которых бродит пугливый, как и я, осторожный ветер.
И я слышал - тот ветер и песок доносили до меня голоса медянок. Слышал слова. Слова, которые уже забыл, не познав, не поняв их смысла. Забыл, как только явил себя миру, зашелся первым криком от земного жара, от нестерпимого для моих глаз света, ничем и никем не огражденный от ужасов и боли земной жизни, и тем не менее избирая для себя эту жизнь. То была моя молитва. Моление накануне жизни. И моление медянок даровать им жизнь. Они знали уже обо мне все. Знали, что я жесток и безжалостен, и то, что я есть, подаю им свой голос.
Я иду, я уничтожаю все, на что или на кого падет мой взгляд, куда ступит моя нога. Не они, не медянки, а я их смерть. Я не прощаю им то, что они не похожи на меня. А больше из человеколюбия, требующего от меня справедливости, одной только справедливости. Какая же это наглость - лишить человека жизни. Смерть вам, смерть, безобидные, непонятные мне, непохожие на меня медянки. И я убивал их всюду, где только находил. Хотя позже, когда они навсегда успокаивались, опадали на песок плевком мертвой протоплазмы, жалел. Как это по-человечески - править тризну только по мертвому.
И с ними, мертвыми уже, я тоже говорил, может, больше, чем с живыми. В каждой смерти сокрыта великая тайна. Убийство вылущивало из меня человека и одновременно посылало к человеку, заставляло думать. Может, я предвидел или кто-то подсказывал и мой исход. И я наговаривал медянкам, что это не я убил их, нет, сами, мол, проказничали и допроказничались. Вон белка по дереву скачет, свернет себе голову, но и тут не я виноват буду, я же на то дерево ее не подсаживал, я же только камешек бросил. Она и упала с дерева. Сама виновата, нечего по деревьям скакать. А я неспособен убивать. Я сам жажду быть вечно и той вечности желаю и ей, желаю, чтобы все и всюду было вечным.
И слезы великого обмана и стыда за собственное двуличие и, главное, непоправимость уже происшедшего примерзали к моим щекам. В ту минуту я сам был немного медянкой. А может, и не немного, а полностью, слепой, безобидный, беспомощный перед самим собой и перед всем миром, который обходился со мной так же, как я с теми же медянками.
Я был уже всюду, и меня не было еще нигде.
Тихий послушный ветерок припадал к мои нечесаным, непослушным вихрам, кто-то вроде утешал, поглаживал по голове и в то же время подстрекал меня, трепал мои волосы, как лист осины, что росла неподалеку. Осиновый лист, который ветер, кажется, намеревался сорвать и унести на край света, а заодно уже и меня. Ветер заставлял изведать что-то еще неизвестное, не испытанное мной. И я сам превращался то в вольный ветер или в тот же осиновый лист, дрожащий от его дыхания, в слепую песчинку, что сливалась с сугробом песка подо мной, и я сам сливался с тем песком. Сыпучим песком вечности.