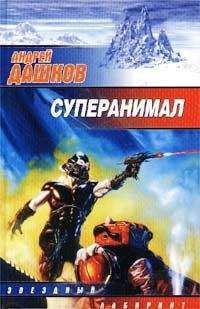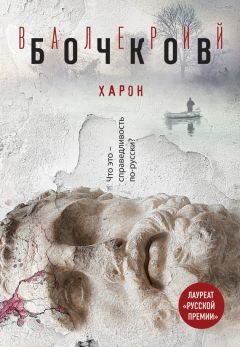Владимир Пузий - Смерть Харона
* * *
"Кто это был? Скажи мне правду, муж - кто приходил? Я что-то плохо помню: стук в дверь... - а дальше? Только пустота". Кузнец качает головою: "Так, ошиблись домом. Ты забудь-ка лучше про глупости. И собери в дорогу поесть мне. Ухожу". "Куда?" "Работать". "Когда вернешься?" "Скоро. /Никогда. Я никогда к тебе не возвращусь, земная женщина. Прощай. Прощай, была ты хорошею супругой. И любила меня, как не любил еще никто. Но я - рожден быть Богом. Ухожу. ...Как больно сердце рвется, как жестоко оно стучит мне в грудь! Так, будто в горне пылает огнь, что выкрал Прометей! - но Ухожу. Я слишком многим за это право заплатил. Сейчас уже не знаю, стоил ли предмет такой цены. Но отступаться - поздно. Я - ухожу!/" Закрыл тихонько дверь. Горит огонь очажный. Кто-то плачет. И тишина молчит.
* * *
Над кузницей Гефестовой впервые за много сотен лет клубится дым и молот опускается - металл ему ответствует величественной песней. И вот - готова новая ладья. Сам Зевс спустился в кузницу. Стучится он в дверь Гефестову и просит разрешенья войти. "Входи, отец". И Громовержец заходит, голову склоняя - вход намного ниже роста Зевса. "Здравствуй", - негромкое звучит. "Не ждал?" "Не ждал", - кривит душой Гефест. "Тебя - не ждал". "Тогда - кого?" "Не все ль равно, кого? Работа - вот она. Прими или отвергни, но на вопросы отвечать не стану". Зевс смотрит на ладью. Она, как птица, распластанная над гнездом в последнем отчаянном и безнадежном жесте прикрыть птенцов крылами, - здесь стоит величием Гефестова уменья, победой кузнецова мастерства. "А плавать будет?" Тот пожал плечами: "Проверь, тогда узнаешь". Зевс кивнул: "Проверю обязательно. А ты - не станешь ли в Аида царстве новым Хароном?" Оскорбительно и дерзко Гефест смеется: "Более в Хароне необходимости не будет. Лодка без кормчего отныне станет плавать". "Как так?" "Вот так - без кормчего, без весел, без паруса и без рула. Сама". "Ты, верно, хочешь посмеяться, дерзкий?! Ты, верно, издеваешься, Кузнец?!" Гефест спокойно предлагает: "Что же, проверь ее - и тотчас убедишься: я правду говорю". "Немедля лодку для спуска в Ахерон ты приготовь, и..." "Все готово, Зевс". "Тогда пришлю за нею Ареса. Он отнесет ладью в Аида царство. Ты ж дождись здесь брата и вслед за ним спускайся к Ахерону. Там буду ждать вас". Зевс прощальный жест бросает, словно кость - собаке старой, и покидает кузницу. Гефест блестит глазами, провожая гостя копьеподобным взглядом. Дверь закрылась. Кузнец садится на скамью, в углу, и начинает ждать.
* * *
Огонь почти потух в вспотевшем горне. Стук в дверь. Хромая тень ворчит: "Открыто". "Позволь?" - вторая тень, в гребнистом шлеме, величественная, зашла и встала, как будто не решается ступить навстречу тени первой. "Я пришел". "Ладья - вон там". "Я вижу. Я... Гефест, я рад, что ты вернулся". "Я - тем паче. Но только милость или извиненья мне не нужны; подачки - не нужны! Бери ладью и уходи-ка вниз, к Аиду. Я отправлюсь следом". "Что же, смотри, Кузнец. Такая отчужденность, возможно, в собственных глазах тебя и делает страдальцем-Прометеем, но только..." "Прочь!" - хромая тень змеею взвивается. "Бери ладью - и прочь!" Уходит гребнешлемый. Тень садится обратно на скамью. "Как ты был прав, соперник мой проклятый! Как ты был невероятно прав! Когда титан решил огонь украсть, он мне, Гефесту, сказал: "Пойдем, Кузнец. Пойдем со мной". Я отказался. Страх, тот рабский страх за собственную участь, за покой, который властвует безудержно над миром, - тот страх меня, Гефеста-Кузнеца! - сковал цепями. И - я отказался. Как часто я потом жалел об этом, но Время не умеет замирать на месте иль идти назад. Дела (или бездействия) все наши безвозвратны. И Прометей сегодня - на Кавказе, а я - опять вернулся на Олимп, чтобы в Аид спуститься. И спускаюсь. Уже иду". Заснул огонь. И тень во тьме растаяла.
* * *
Над водами реки струится крик, как будто здесь, на берегу, собрались все птицы мира; потеряв птенцов, они тоскуют; их тоска, сгущаясь, становится похожею на дым, на руки и на плечи оседает и гнет к земле бесплотные фигуры теней умерших. Крик - прощальный гимн Харону, перевозчику-уроду; крик - песнь отчаявшихся, что и в смерти забвенья не нашли. И в этот крик, как в снег - горячий меч, вошла фигура с блестящею ладьею на руках. Фигура хромоногая глядит на это действо издали: умерших толпа раскрылась раковиной дивной, и гребнешлемый опустил ладью на волн ладони едкие. Она, качнувшись, заплясала на воде листком осенним. Вздохом облегченья ответствует толпа теней: "Сбылось! Харон воскреснет, он воскреснет снова, чтоб нас перевозить". Качает Арес в шлем убранною головой: "Харон уж не восстанет из небытия. Но и не нужно. Эта диво-лодка сама способна вас перевезти на берег дальний без руля, без весел, без кормчего. Такое чудо сделал для вас Гефест. Воздайте ж кузнецу вы должное!" Толпа кричит в восторге. "Да здравствует многоумелый, добрый Гефест, спаситель наш! Пусть он вовеки не будет знать ни в чем нужды! Будь славен, могучий повелитель мастерства. Будь славен! Как тебе мы благодарны!.." Молчит хромой могучий силуэт. "Того ли я хотел? Нет, не того. Но почему же?.. Снова восстановлен в своих правах; могу опять творить. А Афродита... - что же, "Афродита"? - да проживу и без нее! Гляди, гляди, Кузнец, - вот эти тени все тебя благодарят, тебе возносят молитвы. Вот чего ты добивался - признание. Признанье... мертвецов? Но для того ль я отравил Харона, затем ли уничтожил старика; отвергнул женщину земную, ту, которая так искренне любила меня? Зачем все это? Ну зачем?! Лишь для того ль, чтоб толпище теней сегодня мне молитвы возносило?!.. ...Но главное, что мастерство мое понятно им, они согласны с тем, что я творец, а не обычный резчик по дереву, который для поживы и день, и ночь не покладает рук; они-то понимают: я - художник, что непрестанно к совершенству формы..." Тут кто-то дернул за хитона край Гефестового. Посмотрел Кузнец: у ног его стоит худой подросток. "Скажите, вы - Гефест?" - глаза сверкают. "Да, я Гефест". Тогда худая тень, худую руку протянув, раскрыла свой грязный кулачок. И на ладони, распахнутой, как чашечка цветка, лежало все богатство стариков, что сына своего похоронили единственного, - там лежали, словно две капли слез - два выщербленных, тусклых обола!..