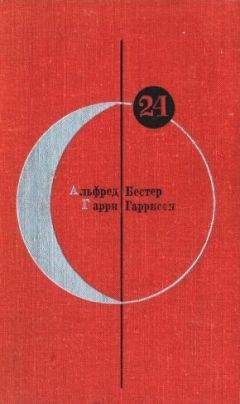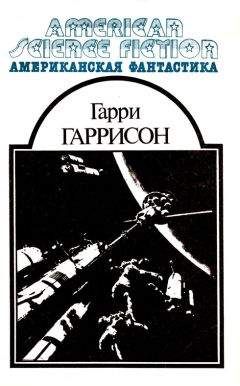Гарри Гаррисон - Чего стоят крылья
Более того, робот иногда может даже воображать себя мессией для своих сородичей, компьютер — становиться в собственных глазах всемогущим божеством, а пришельцы с далеких планет — выступать в роли исповедников и отпускать землянам их грехи (при этом среди последних обязательно находится такой, кто, как в свое время церковь, не гнушается брать с новоявленных прихожан-соседей деньги за сердобольность космических гостей). Да и весьма популярная ныне в фантастике линия, разрабатывающая тему параллельных или альтернативных миров, разумеется, генетически связана с давними религиозно-эсхатологическими концепциями и представлениями о рае и аде и являет собой научно-фантастический аналог «иного», а подчас и «лучшего» мира.
Научная фантастика, давая явлениям рациональные объяснения, научно истолковывая историю природы и общества, тем самым уже вступает в противоречие с религией, рисующей совершенно иную картину мира и выводящей его существование только из одной — сверхъестественной — причины. Она «провинилась» перед религией еще и тем, что, заглядывая в будущее, всегда отказывала в нем последней. Заметим, что ни в одном рассказе настоящего сборника, которые можно отнести к собственно научной фантастике, бог так и не появляется, и это можно считать законом для жанра. То, что он присутствует в оставшемся за пределами книги романе Карела Чапека «Фабрика Абсолюта», о котором речь пойдет ниже, кажется исключением, опровергающим общее правило, однако не трудно установить, что у Чапека научная фантастика заканчивается и переходит в гротеск там, где президент Бонди спускается в подвал посмотреть на карбюратор инженера Марека. Именно инженеру Мареку, кстати говоря, принадлежат слова: «Наука не может допустить существования бога… И я убежден, что наука постепенно, шаг за шагом, вытеснит бога или хотя бы ограничит его влияние; я убежден, что в этом высочайшее ее назначение»[4]. Чапек отправляет бога в мир, и тот безраздельно царит в романе, оттеснив науку на первые несколько страниц. Но какими унижениями от нее ему приходится расплачиваться за внимание автора к его особе! Во-первых, бога «вырабатывают чистейшим машинным способом». Во-вторых, исследуют его физико-химические свойства («Чистый Абсолют проникает через любые тела, через твердые, правда, несколько медленнее. В воздухе он распространяется со скоростью света… В присутствии Абсолюта любой источник света испускает лучистую энергию гораздо интенсивнее»[5]) и даже измеряют его («В поперечнике у него около шестисот метров, на краях он приметно слабеет» — это относится к «землечерпальному» богу, а ведь есть еще «карусельный» и т. п.[6]). И в довершение всего его деятельности на благо человечества выносят очень низкую оценку: «Он всемогущ, а сотворил лишь хаос»[7].
Слова инженера Марека удивительным образом перекликаются с утверждением Мустафы Монда из романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»:
«Бог несовместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем»[8]. Не слышатся ли в этом афоризме отзвуки горделивого равнодушия, с каким Пьер Симон Лаплас, знаменитый физик-астроном и математик, создатель теории образования Солнечной системы из вращающейся газовой туманности, ответил на вопрос Наполеона о том, почему он в своей «Небесной механике» ни разу не упомянул бога: «Я не нуждаюсь в подобной гипотезе»?
Впрочем, противоборства с наукой не выдерживает не только бог, но и его антипод — дьявол. В качестве примера можно привести «Договор» Уинстона П. Сэндерса.
К паре Мустафа Монд — Лаплас нетрудно добавить еще одну: Урбен Жан Леверье — Атон. Первый в 1846 году вычислил орбиту и положение невидимой с Земли планеты (ею оказался Нептун), второй повторил его подвиг в рассказе Айзека Азимова «И Тьма пришла».
Подобным аналогиям в современной фантастике несть числа. Чаще всего толчком для них служит предшествующая литературная традиция. Это не удивительно: ведь фантастика, согласно свидетельству все того же Станислава Лема, «с самого начала жила в долг — зачерпывая пригоршнями из сокровищниц всевозможного фольклора, из мифологии разных стран, из преданий, раздувая то, что охотно называется «архетипическими символами», до трансгалактических размеров»[9].
Кстати говоря, уже названный рассказ «И Тьма пришла» прекрасно иллюстрирует это утверждение польского фантаста. Начнем с того, что центральный пункт теологии азимовских служителей Культа — поглощение Лагаша «колоссальной пещерой» и наступление полного мрака — «списан» автором из древних космогонических мифов. Вспомним: победив владычицу Хаоса — Тиамат и разрубив богатырским мечом ее бездыханное тело, чтобы из получившихся половин создать небесный купол и земную твердь, глава древневавилонского пантеона Мардук на окраине Вселенной устроил таинственную пещеру с двумя входами-выходами, обращенными в разные стороны. Эта пещера, из которой попеременно выплывали и в которой потом скрывались Солнце и Луна, была преддверием мира Мертвых — ужасной страны без возврата.
И планету, на которой разворачиваются события в рассказе, Азимов весьма показательно называет именем одного из главных центров цивилизации Шумера — Лагаша. И название города Capo из рассказа — по или независимо от воли автора — созвучно саросу (греч. saros), обозначающему период, по прошествии которого в одной и той же последовательности повторяются солнечные и лунные затмения (! — С. Б.). Да и другое объяснение гибели цивилизации Лагаша — огненные дожди — имеет свои аналоги, правда, на этот раз в Библии — ведь именно огнем с неба испепелил господь погрязших в распутстве жителей Содома и Гоморры.
Дотошный исследователь заметит, что в пещере у вавилонян скрывались только небесные светила, в то время как у американского фантаста — сама планета; да, кроме того, земной Лагаш, возможно, старше мифа, анонимом вошедшего в рассказ, — ведь расцвет Лагаша пришелся на вторую половину третьего тысячелетия до нашей эры, а появление древневавилонского литературного памятника «Энума элиш» («Когда вверху…»), из которого «зачерпывал» Азимов, большинством ученых относится примерно ко времени правления в Вавилоне царя Хаммурапи, то есть к 1792–1750 годам до н. э. (при этом, правда, не исключается, что вавилоняне только послужили для Айзека Азимова связующим звеном между мифологией Шумера и собственным творчеством, переведя неизвестный нам шумерский источник на аккадский язык и занеся его на свои клинописные таблицы); однако мы не вправе требовать, чтобы писатель-фантаст во всех случаях выверял полет своей фантазии по строгим академическим источникам.