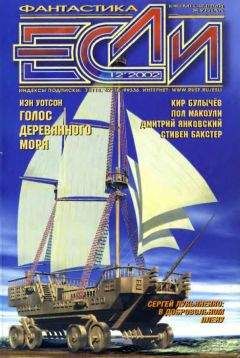Джеймс Блиш - «Если», 2002 № 06
— Да, помню, я в то время тут жил.
— Мы сняли маленький белый домик на Франт-стрит и разложили вещи. Даже купили кое-что новое. Все знали, что у меня хорошая работа, и охотно давали в кредит. Думаю, мы пробыли в городе пару месяцев, когда я вернулся с работы и увидел в доме незнакомого парнишку. Мама держала Марию на коленях и приговаривала:
— Смотри, Мария, это твой старший братик.
Я подумал, что у нее, наверное, в голове помутилось или она просто меня разыгрывает, словом, что-то в этом роде. Вечером парнишка ужинал с нами, словно в этом нет ничего особенного.
— И что вы сказали? — допытывался я.
— Да ничего. В девяти случаях из десяти это самое лучшее, что можно сделать. Выжидал и смотрел в оба глаза. Приходит ночь, и парень поднимается наверх, в маленькую комнатку, которой мы не собирались пользоваться. Ложится и засыпает. Не поверишь, у него там стоит топчан, в шкафу его вещи, на столе учебники и все такое. Мама говорит, что придется купить ему настоящую кровать, поудобнее, когда видит, как я заглядываю в комнату.
— Но она единственная, кто…
Папа закурил новую сигару, и я вдруг осознал, что уже совсем стемнело и мы оба говорим так тихо, словно опасаемся чужих ушей.
— Все, — ответил он. — Назавтра после работы я иду в школу к монахиням. Думаю, если опишу его приметы, может, они узнают, кто он.
— И что же?
— Стоило назвать свое имя, как они в один голос запели: ах, вы папа Питера Палмиери! Прекрасный ребенок!
Он снова долго молчал, прежде чем добавить:
— Когда в следующий раз получаю письмо от своего отца из Старого Света, он спрашивает: «Как мой маленький Питер?»
— Вот так просто? И все?
Старик кивнул.
— С тех пор он живет с нами. И в самом деле, хороший мальчик, лучше, чем Пол или Мария. Но он так и не вырос. Сначала он — старший брат Марии. Потом — брат-близнец. И, наконец, младший брат. Скоро он станет слишком маленьким, чтобы принадлежать маме и мне, и тогда, думаю, уйдет. Ты единственный, если не считать меня, кто заметил. Ты ведь играл с ним в детстве, верно?
— Да.
Мы просидели на крыльце еще с час или больше, но разговаривать уже не хотелось. Когда я встал, папа вдруг встрепенулся.
— И еще одно. Трижды я брал святую воду из церкви и брызгал на него, спящего. Ничего. Ни ожогов, ни криков, вообще ничего.
Настало воскресенье. Я надел лучшее, что у меня было: чистую спортивную рубашку и приличные брюки — и попросил водителя грузовика, остановившегося у кафе, подвезти меня в город. Я знал, что монахини из Непорочного Зачатия обязательно пойдут к первым двум мессам. Поэтому и хотел улизнуть от Палмиери, которые наверняка потребовали бы, чтобы я отправился с ними. Так что пришлось часа три прошляться по городу: все было закрыто. Потом я подошел к маленькому монастырю и позвонил. Открыла молодая незнакомая монахиня и отвела меня к матери-настоятельнице, оказавшейся сестрой Леоной, которая когда-то преподавала в третьем классе. Она почти не изменилась. Монахини вообще редко меняются: прикрытые накрахмаленным убором волосы, ни капли косметики. Во всяком случае, стоило увидеть ее, как возникло ощущение, что я только вышел из класса. Не думаю, правда, что она меня вспомнила, хотя я назвал свое имя. Объяснив, в чем загвоздка, я попросил показать личное дело Питера Палмиери. И она отказалась. У них наверняка было полно записей, табелей и дневников, накопившихся за двадцать или более лет, но хотя я молил, заклинал и орал, а под конец и угрожал, она непреклонно повторяла, что личное дело каждого ученика — вещь конфиденциальная, оно может быть показано только с разрешения родителей.
Тогда я изменил тактику. Прекрасно помню, что когда учился в четвертом классе, фотограф сделал общий снимок. Как сейчас вижу фотографа, то и дело нырявшего под темную тряпку и снова выглядывавшего на свет Божий. Ну в точности согбенная монахиня, которая целится в камеру! Я спросил сестру Леону, нельзя ли взглянуть на фото. Поколебавшись, она все же согласилась и велела молодой монахине принести большой альбом, где хранились все классные фото с того года, когда была основана школа. Я попросил поискать снимок четвертого класса сорок четвертого года, и она, пошуршав бумагой, открыла нужную страницу.
Нас выстроили ровными рядами на школьном крыльце попеременно, мальчиков и девочек. В точности, как я помнил. У каждого мальчика по бокам стояли девочки, а впереди и сзади — по мальчику. Я был уверен, что Питер стоял прямо за мной, на одну ступеньку выше, и хотя я не вспомнил имен девочек, стоявших справа и слева, но узнал лица.
Снимок немного пожелтел и выцвел, но, увидев школьное здание по пути в монастырь, я поразился, насколько новее оно казалось тогда. Я нашел на снимке то место, где должен был находиться сам, во втором ряду от двери и примерно на три ступеньки выше нашей учительницы, сестры Терезы. Но моей физиономии там не было. Вместо нее между двумя девочками выделялось крохотное, но отчетливо видное загорелое лицо Питера Палмиери. Я пробежал глазами по списку имен внизу снимка, но мое имя там не значилось. А его — значилось.
Уж не знаю, что я наплел сестре Леоне и как выбрался из монастыря. Только помню, как мчался куда-то по почти пустым воскресным улицам, пока не набрел на редакцию местной газеты. Солнечные лучи отражались от позолоченных букв вывески, а стекло в окне сверкало слепящим пламенем, но я сумел разглядеть смутные силуэты людей внутри. Поэтому принялся пинать дверь ногой, пока один из них не открыл дверь и не впустил меня в пропахшую чернилами комнату. Там оказались два сотрудника. Я никого не узнал, но все же выжидающее молчание хорошо смазанных, блестящих прессов было так же знакомо, как все остальное в Кассонсвилле. Знакомо и неизменно еще с тех пор, как я вместе с отцом приходил сюда давать объявление о продаже дома.
Я слишком устал, чтобы пикироваться с ними. Словно в монастыре из меня что-то вынули, и я ощущал свой пустой живот, с глотком горького кофе на самом дне.
— Пожалуйста, сэр, выслушайте меня, — попросил я. — Был такой мальчик по имени Пит Палмер. И родился он в этом городе. Остался в Корее, когда военнопленных обменивали в Панмунджоне, и отправился в Красный Китай. Там работал на текстильной фабрике, а когда решил вернуться домой, его засадили в тюрьму. Он сменил имя, после того как Уехал отсюда, но это не имеет значения. Наверняка здесь о нем много чего осталось, потому что он был местным. Можно посмотреть ваши архивы, кончая августом и сентябрем пятьдесят девятого? Пожалуйста.
Они переглянулись и уставились на меня. Один — совсем старик с плохо прилаженной вставной челюстью и в зеленых очках: копия киношного газетчика. Второй — жирный, со злобной мордой и тупыми глазами-пуговицами.